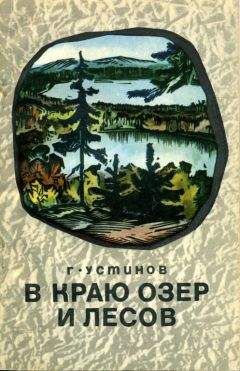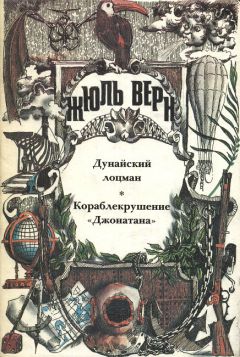Аксель Мунте - Легенда о Сан-Микеле
Но теперь мне некогда было исследовать грот - мои мысли были заняты предстоящей регатой. Я послал предупредить Пакьяле, что после завтрака я приду осмотреть новые паруса. Дверь сарая я нашел открытой, но Пакьяле нигде не было. Когда я один за другим начал развертывать паруса, мне стало дурно. В топселе зияла большая дыра, шелковый спинакер, который должен был принести мне победу, был разорван почти пополам, кливер испачкан и превращен в лохмотья. Когда ко мне вернулся дар речи, я стал в ярости звать Пакьяле. Он не приходил. Я выбежал из сарая и наконец разыскал Пакьяле - он стоял, прижавшись к садовой ограде. Вне себя от гнева я поднял руку, чтобы его ударить. Он не уклонился, не издал ни звука и только, не поднимая головы, раскинул руки. Я не ударил его - я знал, что означает его поза: он пострадал бы безвинно - поникшая голова и раскинутые руки обозначали распятие Христа. Я заговорил с ним так мягко и спокойно, как только мог, но он ничего не ответил и не отошел от ограды. Тогда я положил ключ от сарая в карман и созвал весь дом. Никто не заходил в сарай, никто не мог ничего сказать о случившемся, только Джованнина принялась рыдать, закрыв лицо передником. Я повел ее к себе в комнату и с трудом заставил ее говорить. Жаль, что я не могу слово в слово пересказать трогательную историю, которую она между всхлипываниями поведала мне. Я сам чуть не заплакал при мысли, что я едва не ударил беднягу Пакьяле. Все произошло два месяца назад, первого мая, когда мы плыли еще в Риме. Может быть, читатель помнит то знаменитое первое мая, много лет назад, когда во всех странах Европы ожидались социальные перевороты, уничтожение класса имущих и их проклятых богатств. Так, во всяком случае, утверждали газеты, и чем меньше была газета, тем больше была обещанная катастрофа. Самой маленькой газеткой была "Voce di San Gennaro", которую Мария Почтальонша два раза в неделю приносила приходскому священнику, одалживавшему ее всей местной интеллигенции, - вот так в аркадский мир Анакапри проникало слабое эхо мировых событий. Но на этот раз это было отнюдь не слабое эхо, а удар грома с чистого неба, потрясший все селенье. Первого мая должен был наступить давно предсказанный конец света. Воинство Дьявола, несметные орды Аттилы будут грабить дворцы богачей, жечь и уничтожать их имущество. Воистину настали последние времена, castigo di Dio! Castigo di Dio! С быстротой пожара эта весть разнеслась по Анакаприя.
Священник спрятал драгоценности Сант Антонио и церковные сосуды под кровать, сливки общества укрыла движимое имущество в погребах, простой народ, сбежавшись на площадь, требовал, чтобы святого вынули из ниши и пронесли по улицам для отвращения напасти. Накануне рокового дня Пакьяле пошел к священнику и попросил у него совета. Бальдассаре уже побывал там и вернулся успокоенный - священник сказал, что разбойники, конечно, не тронут разбитые камни, глиняные горшки и древности доктора. Бальдассаре может спокойно оставить весь этот хлам на месте. Зато Пакьяле священник объяснил, что раз он отвечает за паруса, то его дело плохо. Если разбойники нападут на остров, они приплывут на лодках, а паруса для моряков - самая ценная добыча. Спрятать их в погребе - опасно, так как моряки любят и хорошев вино. Лучше всего будет, если он унесет их на свой участок под отвесными скалами Дамекуты; это надежное место, так как разбойники, разумеется, не станут спускаться с такой крутизны - не захотят же они ради парусов ломать себе шеи!
С наступлением темноты Пакьяле, его брат и два надежных товарища, вооружившись крепкими дубинами, потащили мои паруса к нему на участок. Ночь выдалась бурная, начался проливной дождь, фонарь потух. И они спускались по скользким утесам, ежеминутно рискуя жизнью. В полночь они добрались до цели и спрятали свою ношу в гроте лупоманаро. Весь день первого мая они просидели на кипе промокших парусов, по очереди неся стражу у входа в пещеру. На закате Пакьяле решил послать своего брата на разведку в селение - тот долго не хотел идти, но, наконец, они согласились, что он поглядит издали, чтобы не подвергаться излишней опасности. Через три часа он вернулся и сообщил, что никаких грабителей не видно и что в селении как будто все спокойно. На площади собрался народ, перед алтарем горят свечи, а Сант Антонио скоро вынесут на площадь и торжественно возблагодарят за то, что он снова спас Анакапри от верной гибели. В полночь вся компания вылезла из грота и, волоча за собой мои промокшие паруса, стала с трудом карабкаться наверх.
Когда Пакьяле обнаружил, во что превратились паруса, он хотел утопиться, - дочери говорили, что несколько дней и ночей боялись оставить его одного хоть на минуту. С тех пор он очень переменился и все время молчит. И сам это заметил и несколько раз спрашивал Пакьяле, что с ним случилось. Задолго до того, как Джованнина закончила свою исповедь, мой гнев совсем исчез. Я тщетно искал Пакьяле по всему селению и наконец нашел внизу на его участке. Он, как всегда, сидел на камне и смотрел на море. Я сказал, что стыжусь того, что поднял на него руку. Во всем виноват священник. А новые паруса мне вовсе не нужны - обойдусь и старыми. На следующий день я думаю надолго уйти в море, он поедет со мной, и мы забудем всю эту историю. Ему известно, как мне не нравится то, что он могильщик, - пусть же он передаст свою должность брату, а сам вернется на море. С этого дня я назначил его матросом на яхту - Гаэтано два раза так напился в Калабрии, что мы чуть-чуть но пошли ко дну, и я все равно собирался его рассчитать. Когда мы вернулись домой, я заставил Пакьяле тут же надеть новый свитер, только что присланный из Англии. Через всю грудь красными буквами было написано "Леди Виктория" К. Я. К. К. (королевский яхт-клуб, Клайд). Пакьяле больше не снимал этого свитера - в нем он жил, в нем и умер. Пакьяле был уже стариком, когда я с ним познакомился, но ни он сам, ни его дочери не знали, сколько ему лет. Я тщетно разыскивал запись о его рождении в муниципальной книге. Его забыли с самого начала, но мною он никогда не будет забыт и всегда будет жить в моей памяти - самый честный, чистый душой и бесхитростный человек, какого мне только довелось встретить, кроткий и добрый, как дитя. Его дочери рассказывали мне, что ни им, ни их матери он никогда не сказал ни одного грубого или неласкового слова. Он был добр даже к животным. В карманах у него всегда лежали крошки, чтобы кормить птиц в его винограднике. Он был единственным человеком на острове, который никогда не поймал ни одной птицы и не побил осла. Преданный старый слуга перестает быть слугой. Пакьяле был моим другом, и я считал это честью для себя, так как он был гораздо лучше меня. Хотя он принадлежал к совсем иному миру, почти мне незнакомому, мы прекрасно понимали друг друга. В те долгие дни и ночи, которые мы вдвоем проводили в море, он учил меня многому, о чем я не читал в книгах и не слышал ни от кого другого. Он был скуп на слова - море давно научило его молчанию. Думал он мало - и тем лучше для него. Но его короткие фразы были исполнены поэзии, а архаическая простота его сравнений казалась греческой. Даже многие его слова были греческими, сохранившимися в его памяти с тех дней, когда он огибал эти берега на корабле Одиссея. Когда мы возвращались домой, он по-прежнему работал в моем саду или трудился на своем любимом участке у моря. Мне не нравились эти постоянные прогулки вверх и вниз по крутым обрывам - я считал, что его артерии были уже недостаточно эластичны для подобных упражнений, и он совсем задыхался, когда завершал подъем. В остальном он как будто не менялся, никогда ни на что не жаловался, ел свои макароны с обычным аппетитом, и с рассвета до захода солнца был на ногах. Но однажды он вдруг отказался есть, и какие бы лакомства мы ему ни предлагали, он повторял "нет". Однако он признался, что чувствует себя un poco stanco немного усталым, и несколько дней, казалось, с удовольствием провел на галерее, глядя на море. Затем он заявил, что хочет спуститься к себе на участок, и мне лишь с большим трудом удалось его отговорить. Вероятно, он и сам не знал, почему его так тянет туда, однако я это хорошо понимал. В нем говорил первобытный инстинкт, и ему хотелось одного: уйти от всех, спрятаться за скалой, за кустом или в гроте, лечь и умереть там, где много тысячелетий назад умирали первобытные люди. Около полудня он сказал, что хотел бы лечь в постель - он, который никогда в жизни не ложился днем в постель. Несколько раз я спрашивал, как он себя чувствует. Оп благодарил и говорил, что хорошо. Под вечер я распорядился пододвинуть его кровать к окну, чтобы он мог видеть, как солнце погружается в море. Когда я, после вечерни, вернулся домой, все мои домочадцы, брат Пакьяле и его друзья сидели у него в комнате. Никто их не созывал - я и сам не думал, что конец так близок. Они не разговаривали, не молились, а всю ночь сидели молча и неподвижно. По местному обычаю, все держались в стороне от кровати. Старый Пакьяле лежал совсем тихо и смотрел на море. Все было просто и торжественно, как и должно быть, когда чья-то жизнь подходит к концу. Пришел священник дать ему последнее причастие. Он велел Пакьяле исповедаться в грехах и попросить у бога прощения. Старик утвердительно кивнул и поцеловал распятие. Священник дал ему отпущение грехов. Всемогущий бог с улыбкой подтвердил это отпущение и сказал, что охотно принимает старого Пакьяле на небо. Я думал, что он уже отправился туда, как вдруг он поднял руку и нежно, почти робко, погладил меня по щеке.