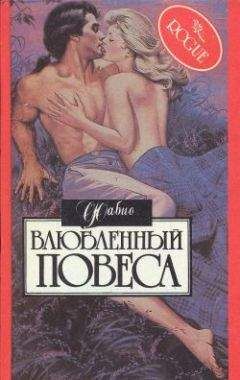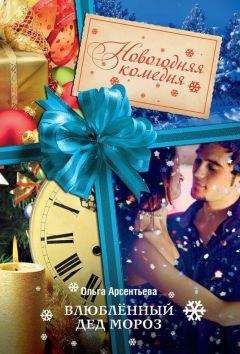Иван Лазутин - Суд идет
Сухо простившись с женой и детьми, Ануров выехал на проселочную дорогу и направился к Варшавскому шоссе.
У первого орудовского поста его остановил милиционер и попросил права, которые Ануров тут же достал и услужливо подал. Старшина-орудовец долго рассматривал их, вертел в руках, бросая косые взгляды в сторону дома, от которого прямо к машине шли два человека. Оба были в плащах и кепках. Один — что шел впереди — широкоплечий, приземистый. Другой — повыше и юношески гибкий. Шли спокойно, неторопливо. Оба держали руки в карманах.
— Тринадцать семьдесят два? — спросил тот, что поприземистее и постарше.
— Так точно! — четко ответил старшина-орудовец, откозырнув неизвестному.
Сердце Анурова щемяще сжалось, замерло. Потом оно ударило сильно и гулко.
— В чем дело? Почему вы меня остановили? — спросил он у старшины.
— Вам, гражданин, придется проехать с нами.
— Кто вы такой?
— Я оперативный уполномоченный районного отдела милиции. — Незнакомец предъявил удостоверение личности.
Нижняя челюсть Анурова безжизненно откинулась, обнажая белый ряд зубов. Долго он не мог попасть рукой в карман, стараясь положить в него бумажник, из которого достал свои любительские права. За каждым его движением оперуполномоченные следили сторожко, готовые в первую же секунду умелым приемом отразить любую выходку Анурова.
— Прошу рядом со мной! — сказал оперуполномоченный постарше, садясь за руль. Ануров послушно сел рядом.
Второй оперативник, что помоложе, с трудом влез в машину. Ему пришлось почти полулежать, подобрав под себя ноги.
— А теперь поедем.
— Куда?
— Пока прямо.
Машина плавно тронулась с места. Ануров попросил разрешения закурить.
— Что вы курите?
— С сегодняшнего дня курю все.
Оперуполномоченный правой рукой подал Анурову пачку «Беломора» и спички.
— У меня есть.
— Курите мои. Так нужно.
Только теперь Ануров понял оперативника. Как арестованному, ему в его теперешнем положении нельзя было лазить по карманам, в которых могло быть оружие.
VII
Шадрин волновался. Впервые поручили ему сложное уголовное дело, в котором хищение исчислялось сотнями тысяч рублей.
В Таганскую тюрьму он выехал рано. Москва еще была погружена в туманную блеклость редких фонарей. Был час, когда ночная хмарь еще не растаяла, а утро только начинало обозначаться в сером небе.
Подходя к воротам тюрьмы, Шадрин вспомнил песню, которую любил петь покойный отец. Он даже сейчас мысленно представлял его жалобный голос:
Звенит звонок насчет проверки,
Ланцов задумал убежать,
Не стал он зорьки дожидаться,
Проворно печку стал ломать…
Валила мокрая шуга. Взад-вперед сновали машины, изредка перебегали через дорогу фигурки людей. Рабочий люд торопился к станкам. Не торопились только два человека: милиционер-регулировщик (с сознанием своего величия он держал в правой руке движение машин и пешеходов) и ломовой извозчик, безразлично восседающий на облучке. В своем тяжелом брезентовом плаще, покрытом слоем мокрого снега, он, как бронзовый памятник, сидел не шелохнувшись, с видом превосходства перед снующими где-то внизу, у ног его, низенькими автомашинами.
В Таганской тюрьме Шадрину приходилось бывать не раз. Все здесь обращало на себя внимание: особый, присущий только тюрьмам запах, напряженная тишина и коридоры. Длинные, гулкие коридоры с бесконечным числом низеньких тяжелых дверей, на каждой из которых стоял номер и был вмонтирован глазок. Молчаливые и хмурые надзиратели.
Следственная комната, где Шадрин должен был допрашивать Баранова, — тесная, прокуренная. Маленький столик для следователя и две табуретки — единственная мебель в этих пропахших табачным дымом четырех толстых стенах, одна из которых зарешеченным окном выходила в тюремный двор.
Шадрин подошел к окну. Пустынный двор с прогулочными квадратами был покрыт пеленой мокрого снега.
Даже стены и те были облицованы таким шероховато-грубым камнем, что на них нельзя ничего ни написать, ни оставить условный знак. «Все строго по тюремной инструкции, — подумал Шадрин. — Кругом ни травинки, ни кустика».
На вышках, под грибками, застыли продрогшие часовые.
Откуда-то со двора, очевидно из камеры противоположного корпуса, приглушенно доносилась печальная песня:
Я помню тот ваинский порт
И вид парохода угрюмый,
Когда мы спускались на борт
В сырые холодные трюмы
Над морем стелился туман.
Кипела вода штормовая,
Остался вдали Магадан,
Столица Колымского края…
И чей-то хрипловатый окрик захлестнул песню: «Прекратить!..»
Плавно покачиваясь в такт невеселой мелодии, Шадрин засмотрелся на тюремный двор. Он вздрогнул, когда услышал за дверью приближающиеся гулкие шаги. Быстро отошел от окна и сел за стол, на котором лежала папка с делом Анурова и его компании.
Дверь следственной комнаты надзиратель открыл без стука.
— Можно?
— Войдите.
В дверях показалась стриженая, с синеватым отливом, бугристая голова человека с вытаращенными глазами. Человек, не мигая, долго смотрел на Шадрина, потом издал неприятный резкий возглас и, щелкнув пальцами, дико захохотал.
Шадрина от этого смеха и от взгляда покоробило. Дверь захлопнулась, и стриженая голова скрылась.
«Что это такое? Кто это?» — подумал Шадрин, пока еще не отдавая себе отчета, что случилось.
В следующую минуту в комнату вошел высокий худощавый мужчина в белом халате. Это был тюремный врач. Он сообщил, что заключенный Баранов последние дни ведет себя довольно странно: дичится соседей по камере, а весь вчерашний день с утра до вечера просидел под нарами и отказывался от пищи.
— Думаю, что Баранова необходимо срочно направить на судебно-психиатрическую экспертизу, — сухо сказал врач и, не дождавшись ответа следователя, вышел.
В комнату снова постучали. Шадрин подошел к двери и широко распахнул ее. Прямо перед ним вырос высокий человек лет тридцати пяти. За спиной его стоял конвоир, он уговаривал Баранова пройти в комнату.
— Ну, заходите, заходите же, не бойтесь, — вежливо сказал Шадрин.
Баранов все с тем же встревоженным выражением лица и широко открытыми глазами на цыпочках, озираясь, вошел в комнату следователя. Его походка была карикатурно-пружинящей, точно он шел между бритвенными лезвиями, воткнутыми в половицы.
— Почему вы так идете?
— А я — ничто! Мне пол не нужен, — моментально ответил Баранов, а сам все боязливо озирался по сторонам.
— Почему ничто? — спросил Шадрин, стараясь казаться спокойным, хотя на самом деле он был далеко не спокоен.
— Невесомость! А для невесомости не нужно опоры.
— Садитесь, гражданин Баранов. — Шадрин показал на табуретку.
Баранов вначале отпрыгнул от табуретки, а потом на цыпочках подошел к ней, зачем-то ощупал ножки и, склонившись почти до пола головой, осмотрел ее со всех сторон.
— Зачем вы это делаете?
— В камере, на нарах, под мою подушку хотели подложить бомбу, а я вовремя заметил. А они везде. Иду на прогулку — они за мной. Хитры — приспосабливаются костюм одеть под цвет стен, вроде невидимки… Сторожа не видят, а я их вижу… Вот и сейчас: смотрите, смотрите — вон он! Хотел подложить под стул толовую шашку, а я его разоблачил… — Баранов уставился обезумевшими глазами в одну точку на голой стене, обращаясь к кому-то невидимому: — Ступай, ступай! Теперь я тебя не боюсь. У гражданина следователя пистолет. При нем ты не посмеешь…
И громко, радостно захохотал. Потом смех стал зловещим. Шадрину от этого смеха стало не по себе.
— Что вы смеетесь, гражданин Баранов?
— Убежал… Струсил… Глядите, как чешет во все лопатки!.. — Он захлопал по-детски в ладоши. — Ему даже костюм невидимки не помог. Вот теперь я и сяду. — С этими словами Баранов плавно опустился на табуретку.
— Руки положите за спину, — предложил Шадрин.
Вытянув вперед голову, Баранов медленно спрятал за спину руки и всем телом подался вперед. В этом положении он застыл, как изваяние. Из уголков его полуоткрытого рта тоненькими струйками текла слюна.
Шадрин закурил. Как только он сделал первую затяжку и выпустил кольцо дыма, стараясь всем своим видом показать душевное спокойствие и равновесие, Баранов стремительно вскочил с табуретки и отбежал в угол. Зажав пальцами нос, он не дышал. Лицо его приняло багровый цвет.
Шадрин затушил папиросу и рукой развеял дым.
— Боитесь дыма? — спросил он, через силу улыбаясь.
Глотнув воздуха, но по-прежнему не разжимая пальцев, Баранов гнусаво ответил:
— Он подложил вам отравленные папиросы. Вы даже не заметили, как он подменил вам пачку, а я видел. В каждую папиросу он впрыснул двадцать три миллиграмма цианистого калия. Яд действует через час. Так что знайте: в вашем распоряжении, гражданин следователь, остался час. Две затяжки — это уже смертельная доза.