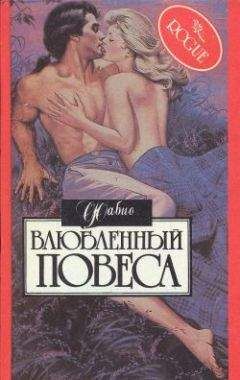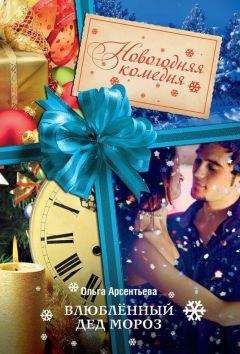Иван Лазутин - Суд идет
— Он подложил вам отравленные папиросы. Вы даже не заметили, как он подменил вам пачку, а я видел. В каждую папиросу он впрыснул двадцать три миллиграмма цианистого калия. Яд действует через час. Так что знайте: в вашем распоряжении, гражданин следователь, остался час. Две затяжки — это уже смертельная доза.
Шадрину было не по себе. Он никак не мог приступить к допросу. Каждая новая выходка подследственного сбивала его с толку.
— Гражданин Баранов, садитесь и отвечайте на вопросы. Мне некогда с вами играть в бирюльки.
Скорее для самоуспокоения, чем для пользы дела, Шадрин подошел к зарешеченному окну и с минуту неподвижно стоял спиной к Баранову, который прижимался к противоположной стене. Дмитрий чувствовал, как билось его сердце. Слух его фиксировал малейший звук: кто знает, что придет в следующую секунду в голову этому, по всей вероятности, сумасшедшему человеку?
«А что, если симулирует? Что, если все это — игра? Может, устроить ему свою экспертизу? — подумал Шадрин, но тут же вспомнил, что, согласно процессуальному праву, следователь должен немедленно направить на экспертизу подследственного, если в поведении его он видит хотя бы малейшие признаки душевного заболевания. — Здесь не признаки. Здесь, кажется, полная картина тяжелого психического расстройства. Сомнения мои может решить только экспертиза… А потом этот приход врача…»
Шадрин услышал за спиной тихие шаги, но не поворачивался, он не хотел выдать своего волнения. Шаги повторились. Потом послышался тоненький визгливый смешок.
Шадрин резко отвернулся от окна. Первое, что бросилось ему в глаза — это был мятый рубль, лежавший на бланке протокола допроса. «Как он попал сюда? Неужели это он подбросил?» — мелькнуло в голове Шадрина, и он перевел взгляд на Баранова. Тот, пригнувшись, делал быстрые движения пальцами, как будто он фотографировал кого-то.
— Что вы делаете?
Баранов тоненько счастливо захохотал.
— А фотографирую.
— Кого?
— Его величество агента федерального бюро расследования, — выпалил Баранов.
— Зачем вы фотографируете?
— Деньги — самый сильный источник всех человеческих эмоций. Помните, у Пушкина:
Что слава? Яркая заплата.
Нам нужно злато! Злато!.. Злато!..
Иуда не устоял, все-таки продал Христа за тридцать серебреников. Не забывайте, гражданин следователь, в вашем распоряжении осталось пятьдесят три минуты жизни. Цианистый калий — самый надежный яд. Анонс… — И запел: — «Трансвааль, Трансвааль, страна родная, ты вся горишь в огне!..»
— Возьмите свои деньги, гражданин Баранов. — Шадрин отодвинул рубль на край стола. — Еще раз предупреждаю: хватит вам валять дурака. Садитесь!
— Нет уж, дудки, гражданин следователь! Не сяду. Я не подойду к вам ближе, чем на четыре метра. Ваше дыхание отравлено цианистым калием. А мне еще нужно жить. У меня не закончен научный труд, который потрясет человечество.
— Что это за труд?
— А не скомпилируете?
— Можете быть спокойны.
— Главы называть не буду, а общий заголовок скажу. — Баранов принял театральную позу и, ритмично поднимая и опуская руку в такт каждому слову, с расстановкой произнес: — «Деньги как источник высших эмоций в человеческой природе»! Ну, как?! Мой сосед сказал, что за одно название можно выдвигать на премию! Мой сосед — пенсионер, с которым я играю по вечерам в «дурака», сказал, что…
— Хватит молоть чепуху, Баранов, садитесь, — проговорил Шадрин и строго посмотрел на подследственного. Но тут понял, что допустил бестактность. «А что, если и в самом деле тяжелый душевнобольной?.. А впрочем… Конечно… Он очень болен…»
Баранов зажался в угол и трясся всем телом, лицо его искривилось в страхе, глаза были испуганно вытаращены.
— Гражданин следователь… Не подходите ко мне… Ради бога, не подходите! Не надо… Я на расстоянии чувствую, как с каждым вашим выдохом в комнате носится все больше и больше молекул цианистого калия… А у меня семья. У меня двое детей, жена больная… — Губы Баранова скорбно вздрагивали. Он плакал. Вид его был жалкий, несчастный.
— Успокойтесь, гражданин Баранов. Я к вам не буду подходить. Не бойтесь, жить вы будете долго. Проживете двести лет, успеете написать десять томов научных трудов.
— Правда? Гражданин следователь, неужели это правда? — Баранов плакал и счастливо улыбался. Грязной ладонью он растирал по щекам слезы. — Вы только скажите им, чтоб они ночью не подкладывали мне под подушку толовую шашку.
— Хорошо, скажу, скажу… — Шадрин нажал кнопку звонка.
Вошел конвоир.
— Уведите.
Пятясь к дверям, Баранов кланялся в пояс и, зажав пальцами нос, гнусаво твердил:
— Вот хорошо… Вот хорошо…
Вышел на цыпочках.
Оставшись один, Шадрин закурил.
— Да-а!.. — вслух произнес он. «Вот это дебют!.. Такое ощущение испытывал только в детстве, когда поздно вечером сломя голову бежал один мимо кладбища. Аж дух захватывает».
…В этот же день без согласования с Шадриным прокурор освободил Баранова из-под стражи и, взяв с него подписку о невыезде, направил на амбулаторную экспертизу. Это озадачило Шадрина: «Почему не в закрытый судебно-психиатрический институт?..»
VIII
Прокурор Богданов в это утро встал рано. Запахнувшись в халат, прошел в свой кабинет и включил настольную лампу. Вчера вечером он долго не мог заснуть, не решаясь: сказать или не сказать жене, что муж ее сестры, Ануров, арестован. Засыпая, он подумал: «Утро вечера мудренее».
Ночь Богданов спал неспокойно. А когда проснулся и посмотрел на спящую жену, то окончательно раздумал заводить разговор об аресте свояка. Даже во сне лицо жены было строгим и властным.
Богданов плотно прикрыл за собой дверь кабинета и принялся ходить взад и вперед по ковровой дорожке. Мысленно он пытался представить себе разговор с женой, подбирал самые убедительные доводы, которыми будет защищаться, когда жена потребует от него облегчения участи Анурова. А его, Анурова, он ненавидел давно. Ненавидел за то, что тот с почти нескрываемым высокомерием смотрел на его работу, на его жизнь. Ненавидел за то, что жена не раз упрекала Богданова, что у ее сестры натуральная котиковая шуба, а у нее, прокурорши, несчастная цигейка, да и та не первого сорта. Когда же Ануров выстроил себе дачу и купил новенькую «Победу», жизнь Богданова в собственной квартире временами становилась невыносимой.
Позже Богданов стал догадываться: если жена начинала устраивать систематические сцены, значит, у Ануровых какое-то новое, солидное приобретение. Кое-что от Ануровых иногда перепадало и им, Богдановым, хотя сам Николай Гордеевич этого, как огня, боялся. Он знал, что рано или поздно Ануров попадется и будет отвечать сполна. Не раз намекал он об этом жене, полагая, что разговор этот вспыхнет в семье ее сестры, но все шло своим чередом. Жизнь Ануровых год от года становилась все шире, роскошнее. Теперь Богданов жалел только об одном, что арест свояка случился не летом, когда, как обычно, сестры-близнецы месяца два разъезжали по побережью Черного моря. Он знал, что теперь ему предстоит выдержать целую серию атак со стороны жены и свояченицы.
С фотографии, висевшей на стене, на Богданова смотрел молодой, бравый курсант Ленинградского военно-морского училища. Это был единственный сын Богдановых, больше детей у них не было. Богданов подошел поближе к фотографии и, заложив за спину руки, остановился. «Эх, Сашок, Сашок… Посмотрел бы ты, как трудно иногда бывает твоему отцу. Только вот сказать тебе не могу об этом, потому что она тебе родная мать. Но ты когда-нибудь и сам поймешь, как нелегко приходится твоему отцу быть одновременно и прокурором, и независимым мужем. Боже сохрани тебя, сын, от участи твоего отца! Не бери в жены своенравную, неграмотную волчицу. Иначе ты, товарищ будущий моряк, пропадешь!..»
Богданов вздохнул и отошел от фотографии. В ванной он развел в горячей воде мыльный порошок, намылил щеки, подернутые седой щетиной, и начал бриться. Из круглого зеркальца на него смотрело суровое, перекошенное болью лицо человека с непреклонным взглядом. Вспомнив жену, он вздохнул и, очевидно, в тысячный раз за свою жизнь пожалел, что сделал по молодости такую ошибку, которую можно еще было поправить вначале, сразу же после женитьбы. «Если бы не сын и не партбилет, можно развестись и сейчас. Хоть на старости лет пожить по-человечески. У простых смертных все это делается проще. Заявление в нарсуд. Объявление в газете. И с ног долой все путы и цепи. А здесь… Номенклатура!.. Блюститель законности и самой высокой морали. Хоть зубами скрипи, а на торжественных праздничных вечерах ухаживай за этой стервозой, как за порядочной принцессой. — Богданов тяжело вздохнул; распаляя свой гнев, думал: — За что?! За какие провинности так наказала жизнь? На работе ты — хозяин, ты — Человек с большой буквы. А дома… О, если б кто заглянул в эту адову жаровню! С годами становишься сквалыгой, незаметно опускаешься…»