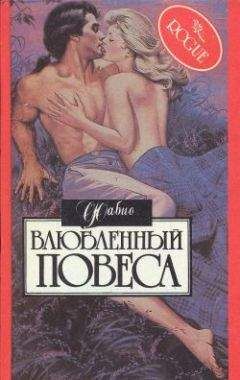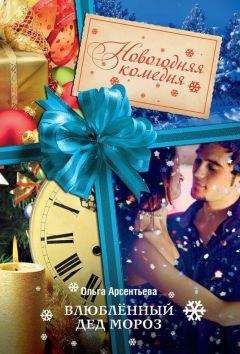Иван Лазутин - Суд идет
— Трус! Из таких вырастают предатели! — сквозь зубы процедил Ануров, сжимая кулаки.
Подойдя к столу, он набрал номер телефона, позвонил Фридману. Тот подошел не сразу, за ним куда-то ходили.
— Это вы, Илья Борисович? Доброе утро! После вчерашнего нашего разговора я многое продумал. На Баранова надеюсь, у того светлая голова и крепкие нервы. А вот Шарапов… Шарапов меня пугает. Вам советую держать связь с ним очень осторожно. Он уже увяз всеми когтями. Чего доброго, потащит и других… Я? Я звоню с дачи. Что-то нездоровится, а поэтому в Москву выехать не могу. Но с Шараповым необходимо встретиться. Думаю, что вам это легче сделать, вы живете почти рядом. Что? Не слышу, повторите! — Ануров жадно припал ухом к телефонной трубке. — Тьфу ты, тоже мне Аника-воин, испугался. Я повторяю, что я болен, выехать в город не могу и знаю, что вы это сделаете не хуже меня. Главное объясните Шарапову, что его ожидает в любом случае, если он потянет за собой и других. Разъясните ему хорошенько, что такое групповая. Да хорошенько приструните его, чтоб он потверже вел себя на допросе. Что? Когда это сделать лучше? Думаю, чем быстрее, тем лучше. Сегодня воскресенье, нерабочий день. Богоугодное заведение, куда завтра снова вызовут Шарапова, сегодня, к счастью, не работает, а к понедельнику его нужно подготовить.
Ануров еще минут пять информировал Фридмана, что он должен сделать и как повлиять на Шарапова, чтобы тот не выдал и их. А когда закончил разговор, то принялся снова расхаживать по кабинету. Переводя взгляд с книжного шкафа на картины, с картин на бархатные гардины, ковры и мебель, он мысленно оценивал обстановку своего кабинета. Потом подошел к столу, открыл дверцу и выдвинул самый нижний ящик, из которого достал деревянную шкатулку с рисунком палехского мастера. Вытащил из нее сберегательную книжку и положил отдельно. Пачку аккредитивов и небольшой кожаный кошелек с драгоценностями бережно завернул в клеенку и закупорил в серебряной кадушечке, которая, как украшение, с карандашами стояла на его столе. После некоторого раздумья нажал кнопку звонка. Даже сигнализация у Анурова и та была персональная: один длинный звонок к жене, два коротких звонка — сыну, три коротких звонка — дочери.
Прошло несколько минут, но жена не приходила. Он даже не слышал снизу никаких признаков того, что на его сигнал была бы хоть малейшая реакция. Снова нажал кнопку. На этот раз звонок был продолжительным. Указательный палец Анурова занемел. В кабинет, громыхая по винтовой скрипучей лестнице, вбежала взволнованная Раиса Павловна. На ходу застегивая халат, она хриплым голосом спросила:
— Что такое? Почему так рано? Ведь ты же весь дом взбудоражил.
— Садись! — властно приказал Ануров и показал ей на мягкое кресло, обитое декоративным бархатом.
— В чем дело? — испуганно спросила Раиса Павловна, медленно опускаясь в кресло.
— Дела неважные, Раечка. Баранова арестовали. Шарапов тоже отживает на свободе последние дни.
Лицо Раисы Павловны начало медленно сереть. Ее губы, румянец которых был уже давно съеден помадами, стали еще бледнее и тоньше. Выражение глаз было испуганно-глуповатое, точно она только что проснулась и ей сообщили что-то очень страшное.
— Ковры, картины и вообще что получше из одежды нужно сегодня же переправить к знакомым.
— Что случилось, Боря?
— Пока еще ничего не случилось, но может случиться такое, от чего у тебя не будет денег на пачку папирос мне в тюрьму.
Лицо Раисы Павловны неестественно вытянулось, она стала зябко кутаться в халат.
— А как же мы, Боря?
Ануров горько засмеялся и покачал головой:
— Ты даже сейчас больше думаешь о своих нарядах, чем обо мне. — Ануров встал и гневно сверкнул на жену глазами. — Пойми, глупая твоя голова, что Шарапов завтра может выдать меня, и тогда вас выбросят из этих покоев на улицу. И в Москве оставят вам не отдельную трехкомнатную квартиру, а одну комнатушку. А ты все еще никак не можешь понять. Разбуди Рену и Владимира. Пакуйте все лучшее, вечером отвезу в Москву.
— Куда? Домой?
— Эх ты, дура… дура… Домой! Ты и сейчас не понимаешь, о чем я тебе говорил. Скоро ты можешь забыть, что у тебя был дом.
Раиса Павловна вышла от мужа, как побитая. Минут через десять дверь кабинета открыл Владимир. Первый раз в жизни он к отцу вошел без стука. В руках у него были клещи. Остановившись в дверях, он пристально посмотрел на отца и иронически ухмыльнулся.
— Выходит, что вишневый сад продан?..
— Да, сынок, продан.
— Можно рубить яблони?
— Можно рубить.
Владимир с гвоздодером шагнул к персидскому ковру, прочно прибитому к стене. Первый гвоздь вылезал с визгом. Этот визг Анурову напомнил скрежет, какой обычно бывает, когда острием ножа скребут о дно тарелки. Плотно сжав челюсти, он одними губами произнес:
— Снимешь вот эти две картины, скатаешь ковры, а остальное не трогай, все в машину не запихаешь. Мебель пусть остается.
Когда Владимир выполнил приказ отца, Ануров поднял голову (он что-то писал) и подозвал сына к себе.
— Садись, мне нужно с тобой поговорить.
Владимир сел в кресло.
— Только слушай меня внимательно и не перебивай. — Ануров перевел взгляд с сына на свои руки и продолжал сидеть не двигаясь. — Матери я об этом только намекнул, а тебе скажу все. Девяносто из ста за то, что меня посадят. За что? Ты знаешь.
Владимир поднял на отца тревожный взгляд, который выражал удивление и сочувствие.
Ануров сердито посмотрел на сына и продолжал раздраженно:
— Эти ковры, картины, машина, дача… вся эта гарнитурная мебель… ты что думаешь, все это зарплата? Если ты не совсем глуп, то должен был об этом догадываться раньше. Теперь все приходит к тому, что долго вилась веревочка, но, кажется, показался конец. Подробности говорить не буду. Но хочу кое в чем предостеречь тебя. Мои неприятности могут отразиться и на тебе. Институт внешней торговли — это не ветеринарный техникум. Сына расхитителя государственной собственности к торговле, тем более к внешней торговле, не подпустят на пушечный выстрел. Чего доброго, могут даже попросить из института. — Эти горькие соображения Ануров высказывал, низко опустив голову, словно он чувствовал свою вину перед сыном. — А поэтому есть смысл тебе сегодня же поругаться со мной и уйти жить к тетке.
— Зачем к тетке?
— Ты что, не понял? — Взгляд Анурова остановился на немецком ружье, висевшем на ковре.
— Не понял.
— Я в твои годы такие шарады разгадывал с ходу, — спокойно, как будто разговор шел о пустяках, сказал Ануров. — Повторяю: ты должен поругаться с родным отцом и уйти из дому.
— Из-за чего поругаться? — спросил Владимир, пока еще смутно понимая ход мыслей отца.
— Из-за того, что ты усомнился в честном приобретении всего, что мы имеем. А когда усомнился в этом, то пришел к отцу, чтобы серьезно, по-мужски, по-комсомольски поговорить с ним.
Ануров медленно поднял голову и отвалился на спинку кресла.
— Ты пригрозишь отцу тем, что если он и впредь будет таким туманным и нечестным образом приобретать ценные вещи, то ты заявишь куда следует. Отец назовет тебя неблагодарным щенком и прикажет не совать нос туда, куда не следует. Ты кровно обиделся на отца и покинул родительский дом. Да, кстати, все это ты запиши в дневнике, датируй эту запись двухмесячной давностью и храни дневник так, как хранят последние тайны. Если меня посадят — его найдут в моем письменном столе. Я случайно найду этот дневник у тебя в день ареста и не успею прочитать его. Понял?
— Да… кажется, понял. — Владимир сидел бледный и не мог смотреть в глаза отцу. Он хотел что-то возразить, но, подавленный логикой отца и опасностью сложившейся обстановки, не находил подходящих слов.
— Только это нужно сделать сегодня, после того как упакуешь с матерью вещи. Поставь об этом в известность мать и Рену. Растолкуй им хорошенько, зачем это нужно.
Углубившись в бумаги, Ануров с минуту сидел молча, подкалывая в папку какие-то документы. И только через некоторое время, точно вспомнив, что сын ждет его дальнейших указаний, он тихо сказал:
— Ступай и делай то, что может спасти тебя. Это, пожалуй, единственный вариант, его трудно опрокинуть.
— А если я действительно, не в порядке комедийной игры на зрителя разругаюсь с тобой, а по-настоящему, открыто, принципиально?! — После этих слов Владимир встал и далеко не по-сыновнему посмотрел на отца.
Прищурив правый глаз, Ануров, как холодным и острым штыком, впился взглядом в переносицу Владимира.
— То есть?
— Без всяких то есть. Все это мне надоело! Ваши ковры, ваши картины, вся ваша дорогая галантерея и коньяки с фруктами — все это ворованное!
Ануров сидел невозмутимо и тихо, ядовито-тихо улыбался, глядя на сына.