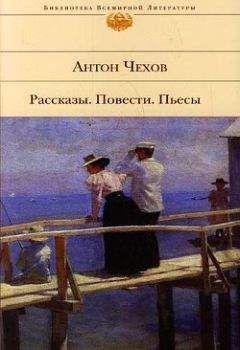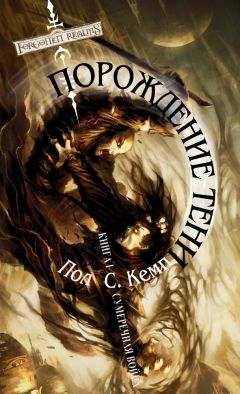Камил Петреску - Последняя ночь любви. Первая ночь войны
На улице бушевала вьюга, сотрясая оконные рамы, заметая снегом улицы, останавливая трамвайное движение. Внутри было тепло, много света, шампанское, и владевшее всеми чувство радости все возрастало в столь приятной и, разумеется, гостеприимной обстановке.
После обеда друг-приятель — дядюшка повел меня и моего зятя в кабинет и велел принести кофе и ликеры.
— Идите лучше сюда, — и он нарочито тяжело опустился в кожаное кресло. — Там уже стало попахивать дамскими штанишками.
Мне стало противно, однако именно такие «остроты» были вполне в его духе и производили фурор в политических кругах и в особенности в бухарестских гостиных.
Он закурил толстую сигару.
— Послушайте-ка, что вы думаете делать с унаследованными деньгами?
Мой зять посмотрел на него, удивленный этой лобовой атакой.
— Не знаю, посмотрим...
— Давайте-ка их сюда, я о них позабочусь.
Я испытывал сильнейшее отвращение к этой театральной откровенности, ибо знал, что за ней скрываются вполне определенные намерения.
Но, видя, как мы потягиваем ликер, не поддерживая разговора на эту тему, он решился перейти к подробностям.
— Я собираюсь купить металлургический завод...
— Дядюшка, я думал...
— Что ты там думал? Я уже видел, чего ты стоишь. У тебя нет практической жилки... Ты же потеряешь состояние («по крайней мере, пусть оно останется в семье» — казалось, подразумевал он). С твоей философией и двух грошей не нажить. С твоим Кантом да Шопенгауэром ничего путного в делах не добьешься. Я поумнее их, когда речь идет о деньгах.
Мой зять засмеялся. Я поглядел на его широкие плечи.
— Дядюшка, я не собирался заводить никакого дела. Я полагаю, что того состояния, которое мне досталось, на скромную жизнь хватит.
— Ты говоришь глупости, — и его зеленые глаза сверкнули. — Никому никогда ничего не хватает. Что ты об этом знаешь? Как, по-твоему, надо содержать такую женщину, как твоя жена? Пусть ходит в бумажных чулках, как до сих пор?
Это включение моей жены на равных в круг всех остальных женщин было для меня невыносимо. Я знал, что для нее такие пустяки не имели абсолютно никакого значения, что благодаря своей красоте она могла бы жить в роскоши и все-таки предпочла жизнь со мной. В моем понимании она была способна ради меня на жертвы, но не могла уйти от меня из-за пары чулок.
Поняв, что- я все же колеблюсь, дядюшка изменил тон.
— Да к тому же,есть и другой вопрос... Я докажу вам, что забочусь больше всего о ваших интересах. — И, обернувшись к пришедшей по звонку служанке, он спросил ее тем же тоном, словно продолжая разговор с нами, кофе ли она принесла или другую, неудобоназываемую жидкость. — Я думал о вас. Неизвестно, когда мы вступим в войну...
— А говорят, мы действительно вступим? — тревожно спросил мой зять, знавший, что партия, к которой принадлежит дядюшка, стоит за нейтралитет.
— Да кто его знает, может, сегодня, может, завтра... а может, и вообще не вступим... На всякий случай вам нужно застраховаться. Пока один из вас мог бы получить броню от мобилизации как директор предприятия. Что ж вы молчите, а? У господина философа такой вид, будто у него нет охоты получить броню и не попасть на войну.
Я не хотел, чтобы мы вступили в войну, но ни одной секунды не допускал мысли о том, что могу избежать мобилизации.
— Я не слишком стремлюсь оказаться подальше от фронта.
Дядя, раздраженный, сорвался с места, скорчив гримасу искреннего презрения.
— Слушай, дорогой мой, ты мне очки не втирай. Ха-ха! Он хочет идти на войну! Расскажи это твоему Канту, может, он поверит, А я — нет. — И он возмущенно удалился в столовую.
Я заговорил с моим зятем о занесенных снегом поездах, о боях на Западе, но он думал о другом.
Нам с женой хотелось бы поселиться в Париже или в Берлине, я предпочел бы Берлин ввиду моих занятий философией: Но о поездке за границу пока не могло быть и речи из-за войны, которая, кстати сказать, вернула на родину певцов, художников, студентов, выпускников и всяких бонвиванов, затерявшихся где-то в дальних краях, причем некоторые из них уехали уже десять-пятнадцать лет назад. Наша жизнь изменилась лишь в том, что мы сняли просторную нечистую квартиру в районе улицы Тейлор и хорошо обставили ее, хотя половина моего состояния была заморожена во Франции. Большая спальня, к которой примыкала ванная комната, облицованная майоликой, маленькая гостиная для жены, кабинет для меня, — все это доставило нам забот на две-три недели. Для меня было несказанным удовольствием видеть, как жена, словно восторженное белокурое дитя, каждый день радовалась этой новой обстановке, разглядывая «свою столовую».
Спустя неделю я рассказал ей мимоходом (как о бессмыслице) о предложений дяди-депутата. К моему удивлению, она не засмеялась, а стала серьезной. Более того, идея войти в дело ее заинтересовала. Я принял предложение дяди.
Поскольку я верил в свои силы, как человек, решившийся отправиться в заведомо опасный путь, ибо знает, что в состоянии защитить себя, то был не слишком озабочен. Гораздо больше беспокоила меня увлеченность, с которой моя жена обсуждала деловые вопросы, и зрелая сосредоточенность, с которой она все взвешивала и оценивала. Разумеется, в этом было нечто от того страстного порыва, который заставил ее прослушать полный курс дифференциального исчисления, тоже ради меня; но немаловажным было и то, что в этой заинтересованности моей жены делами я усматривал издревле .присущую женщинам инстинктивную тягу к деньгам. Подобно тому как плохо прирученная тигрица, в которой пробуждаются атавистические наклонности, почуяв кровь, раздирает неосторожного дрессировщика, которому она клала голову на грудь и лизала руку, так, по сложившемуся у меня впечатлению, история с наследством про-будила в моей жене тайно дремавшие в ней наклонности ее предков.
Впрочем, наш образ жизни, как я уже сказал, изменился весьма мало. Когда около часу дня жена слышала, как у дверей останавливается пролетка, она вскакивала с ковра, расположившись на котором шила вместе с приходящей портнихой (той самой, которая работала раньше у них с тетушкой), бежала мне навстречу в легком домашнем платьице, обнажавшем ее круглое, как яблоко, белое плечо, и кричала, по-детски хлопая в ладоши и забирая у меня свертки:
— Не говори, я сама посмотрю: калифорнийский компот, селедка в вине, копченая рыба... Да ты опять купил cointreau[6]? И швейцарский сыр? Вот уже третий раз приносишь лишнее... О, а где pâté de foie gras[7]? — Глаза горят, как у любопытного щеночка: — Где pâté de foie gras?
— A разве его здесь нет? — говорил я с напускным удивлением. — Значит, забыл в пролетке.
Она звонит... зовет...
— Аника, Аника! Беги за пролеткой! Барин забыл сверток!
— Дорогая моя, как же теперь догнать? Ведь экипаж уже уехал... Правда, я знаю номер.
— Да ну, какой ты противный... Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не забыл pâté de foie gras (действительно, так и было).
Потом она бросает рассеянный взгляд на другой пакет.
— Что ты еще купил? — Читает с трудом, по слогам: — Ernst Mach. Erkenntniss und Irrtum... Lehrbusch der Psychologie[8]... Значит, твой заказ выполнен? Кроме шуток? — И она, которая подобных книг не читала, счастлива, ибо знает, что я ждал их с нетерпением.
Именно такую я ее и любил: с очаровательной жадностью лакомки развертывающую свертки из бакалейного магазина и в то же время робко поглядывающую на пакет с книгами, которых она не читала, но, во всяком случае, знала, что я их очень ценю, и потому интересовалась ими с той вежливостью, с какой приветствуют и спрашивают о здоровье важного господина, уважаемого, но скучного в обществе.
— Ну, а теперь забирай свои книги и отправляйся в кабинет на диван. Можешь спокойно читать до половины третьего... раньше мы обедать не будем.
Мне показалось, что я ослышался, и я с испугом переспросил:
— До двух, моя дорогая?
— До половины третьего... до половины третьего... Сегодня день рождения Горе, и я пригласила всех к обеду... Во второй половине дня ни у кого нет лекций. Пока он уйдет из министерства... побреется, пострижется... Я предупредила, что не пущу его к столу небритым и нестриженым. А еще я ему сказала, что если он и сегодня явится грязнулей, то я его силком засажу в ванну. Видишь, она топится.
— Дорогая, но ждать до половины третьего?... Я умираю с голода.
— Да? — А ну-ка погрызи. — И протягивает мне кожаную перчатку, которую я бросил на стол.
— Да как можно жевать перчатку?
— Ну, значит, ты не такой уж опасный. Ах... чуть не забыла. Я купила бумажник для Горе, сейчас тебе покажу. — И когда я восхищаюсь позолоченной монограммой на уголке, она смеется, вся светится от удовольствия. — Красивый, правда? Знаешь, у Горе бумаги и деньги рассованы по всем карманам, а он говорит, что если есть деньги, то нет бумажника, а если купить бумажник, то нечего будет в него класть... Ну, беги в кабинет.
Через четверть часа она подходит к изголовью дивана, серьезная и спокойная, как прокурор: