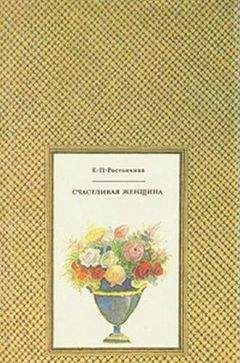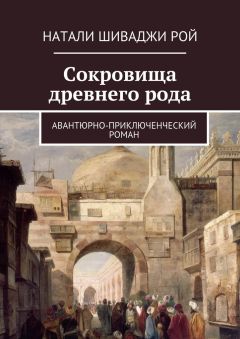Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Игорь посомневался: неужли гости всё вылакали?.. Сколь помнил, у Аркадия для девушек «огненная вода» сроду не выводилось; для простых… полодырых, как в деревне говаривали, — вермут и водочка, для куражливых и разборчивых — коньячок и заморские вина.
Разуваясь в прихожей подле грузного смеркшего зеркала в резной лакированной раме, на затейливо гнутых ножках, Игорь поинтересовался, вспомнив о возлюбленной Аркадия:
— Ада дома?
— Аделаида?.. — Аркадий медлил, вглядываясь в приятеля, размышляя: извещать или промолчать, но, видимо, затяжной и бурный загул развязал язык. — Аделаида, старик, в Израиль укатила.
В памяти Игоря спелась ходовая частушка: «Надоели песни русски, надоела и кадриль, делай Борька обрезанье и поедем в Израиль».
— И надолго?
— А насовсем.
— И ты, поди, лыжи навострил?.. Сидишь на чемоданах?..
— У меня в России много дел. Чего я в Израиле забыл?!
Игорь смирил любопытство, вспомнив, как раздражался, психовал Аркадий, когда приятели пытались выяснить его национальность, и лишь однажды в затяжной студенческой гульбе признался: мама — дочь еврейки, ярой революционерки, прикатившей в запломбированном вагоне из Германии, сгинувшей в сталинских лагерях; папа — сын латышского стрелка, выросшего до ленинского комиссара, которого Иосиф Бесцеремоныч прислонил к стенке. Папа с перепугу, чтобы над родовой не кружили зоркие сталинские ястребы, отрёкшись от еврейки-мамы и отца-латыша, из Якова Райниса обратился в Якова Раевского и, прихватив семью, дал драпу, улизнул из столицы в еврейскую Одессу. Чиновничал в одесской торговле, но…похоже, и коту пришёл пост, прижал хвост… вынужден был рвануть в Забайкалье, где опять затесался в торгаши. Когда рабоче-крестьянские студенты перебивались с хлеба на квас, разгружали продуктовые вагоны, кочегарили, сутками кидая уголёк в топку, сын Якова Раевского Аркаша как сыр в масле катался.
Раевский — фамилия русского дворянства, от слова рай… Позже Игорь вызнал и доспел разумом: после революции местечковые и мировые евреи, что полонили Кремль, избрали звучные фамилии — нередко…богохулы же, богоборцы… и с православнохристианским смыслом, — фамилии, коими в благодатные лета величалось православное духовенство. Вот и наплодились на Руси властные неруси Успенские, Рождественские, Вознесенские, Покровские, крушившие веру православную.
В просторной…хоть на велосипеде катайся… с высокими, лепными потолками, старинной кухне, где наладились пить «Листопад», — над грузной резной мебелью светились, словно тусклые луны в ночи, застеклённые, обрамленные фотографии. Чудные, косматые, пучеглазые девы…похоже, из преисподней… вылуплялись нагими грудями и боками из холодных и грязных потёмок, из поздней слякотной осени; и от того, что девицы загадочно кривились, ломались, что лица их толком не разобрать в густом мороке, голые тела походили на разделанные туши, висящие в студёной и тёмной мясной лавке. Имелись среди карточек и байкальские берега и воды, и даже православные храмы, но и эти карточки, словно извоженные грязью, затянутые смрадным дымом, глазели со стен причудливо и зловеще. Творения таинственного…по слухам, гениального… фотографа Аркадия Раевского советские чиновники близь выставок не подпускали…мрачное упадническое искусство… что добавляло карточкам цены…запретный плод сладок… и сулило великое будущее, — ясно море, не в Советском Союзе, в Америке, Европе.
Так размышлял Игорь, равнодушно…многажды зрел… похмельно шаря взглядом по карточкам, но тут же и осадил едкую иронию: «Зря я так круто — своя манера, свой взгляд. Нельзя же всех чесать под одну гребёнку…». В студенчестве…Игорь учился тремя курсами ниже… откровенно дивился карточкам Аркадия Раевского: безумная смелость формы, сумрачная таинственность, глубинный…сразу или сроду не постигнуть… философский смысл; умом принимал, а в светлом и сокровенном потае души отторгал, как сомневался и в иных своих стихах, созвучных карточкам.
— Ну как? — Аркадий перехватил рассеянный, блуждающий взгляд Игоря.
— Интересно, Аркаша… — замялся, смутно отозвался приятель.
Фотограф замер, удивленно склонив плещивую голову, подозрительно вглядываясь в Игоря: он ли, напечатавший в «Моло-дёжке» восторженное слово о фотоискусстве Аркадия Раевского?..
— Не по-онял…
— Талантливо, без спору…
Аркадий смягчился.
— Не то слово, старик, — мощно. Ты глянь!., глянь!., какая форма, какой свет, какие тени! М-м-м! — фотограф обморочно закатил глаза и смачно поцеловал пальцы. — Ничего-о, придёт-таки и моё время, поймёт толпа…на «гнилом» Западе давно уж поняли… где копия с натуры, а где образ. Можно бесконечно изображать цветочки-лепесточки, а у меня человеческая душа, парящая в космосе….
Игорь вновь обозрел полуночные карточки…неожиданно — глазами яравнинских рыбаков, глазами Елены… и подумал, словно услышал их подсказку: «Не в космосе, в преисподней с демоном паришь ты, друг Аркадий…» Но усмехнулся добродушно:
— Старик, от скромности не помрёшь.
— А чего скромничать?! Я себе цену знаю, старик. Похвастаюсь: прошла-таки выставка в Прибалтике, гран-приз получил. Вчера обмывали. Да… Старого бурята снял крупным планом: морщинистое лицо, как степные холмы, изрезанные трещинами, глаза дикие, раскосые, и весь в поту… будто с тёлками вагоны разгружал, — Аркадий засмеялся. — В Прибалтике, старик, понимают фотоискусство, а у нас — хрен. Дебилы же… — махнул рукой. — Ну ладно, садись к столу.
На кухне чисто прибрано; и сколь помнил Игорь, любил Аркадий порядок в гнёздышке, кое досталось от родителей, и, бывало, пьянёхонек-распьянёхонек, а приневолит девиц убрать по-судёшку и вымыть полы. И лишь по батарее разномастных бутылок можно догадаться: накануне — пир горой и дым коромыслом, воздух ещё кислил табаком.
Аркадий отпахнул пузатенький холодильник…хвастается… и, почёсывая лохматую грудь, шарил опухшими глазами по заваленным и заставленным полкам, потом выудил тонко нарезанную сухую колбасу, лафтак копченой горбуши, что сроду не красуется на прилавках, прячется под прилавками, в подсобках на складах, что можно добыть лишь по великому блату. Отец Аркадия, торговая шишка, ныне с матерью укочевал в Белокаменную, в наследство оставив сыну уютное гнёздышко и деловые знакомства.
— Извини, старик, чем богаты, тем и рады.
— Зажрался…
— Люблю повеселиться, а особенно пожрать…
— Холодильник ломится, а всё костеришь власть.
— Так уж и ломится… За весь мир не скажу, а в Америке портовый грузчик лучше нас кормится.
— Тебе видней, ты катался по Европам и Америкам. Водишься с иностранцами…
Игорь не досказал: де, фарцовщик, исподтишка, из-под полы за гроши берёшь у иностранцев американские джинсы и прочее барахло, перепродаешь с щедрым наваром; а чем еще промышляешь, можно лишь догадки строить. А не пойман, и не вор, хотя… вор не бывает богат, а бывает горбат.
— Да и не в жратве таки счастье, старик. Счастье — в свободе, а со свободой у нас туго…
— Ты потише, кругом глаза и уши. Может, прослушивают…
Игорь осмотрел кухню, и Аркадий, глянув следом, уставившись в темный угол, где якобы таится микрофончик, приторно слащавым голосом пропел:
— У нас всё есть, нам ничего не надо… Вспомнил… У старого жида — говорящий попугай. Вылетел в форточку и залетел прямо в КГБ[62]. Жид позвонил: «К вам залетел мой попугай. Если сболтнёт: «’’Брежнев — дурак”, то это не мой попугай»… А в КГБ висит портрет Пушкина — Александр Сергеич же воскликнул: «Души прекрасные порывы!..». Вот и душат…
Вольнодумец Игорь, но тут оробел:
— Доболтаешься, Аркаша. Упекут. И никто не узнает, где могилка твоя…
— Ша, не каркай. У меня везде наши люди, у меня всё схвачено… Ну, давай, старик, не тяни кота за хвост, увыпьем уводки, как говаривали древнегреческие римляне. Лучше бы водка… Фу, как ты, Аркадий Раевский, низко опустился: пьёшь «Ли-сто-пад»… о господи!.. Душа, старик, не принимает. А что делать, отодвинься, душа, а то оболью.
Выпили из серебряных стопок с начеканенными царскими орлами, из которых в былые времена пили русские вельможи да именитые купцы, выстроившие города российские, а после гражданской войны, после братоубийства, — родичи Аркадия по маме, ленинские саратники, мировые и местечковые евреи, прибежавшие в Питер из Одессы и Бердичева и ухватившие российскую власть.
В университете Аркаша приторговывал заморским барахлом — чаще, джинсами, и ловко травил анекдоты; бывало, гуртятся табакуры в курилке, окружив Аркашу, и тот: «Старики, анекдот про жидов…» Любил «про жидов», но упаси бог услышит «жида» в приятельских устах, со свету сживёт проклятых юдофобов. А то, бывало, зажмёт в угол сокурсницу-тихоню, похожую на монастырскую мышь, смущенно алеющую от слова «гумно», и зальёт похабный анекдот; тихоня покроется крапивными пятнами, а Раевский гогочет, словно гусь на вешней проталине.