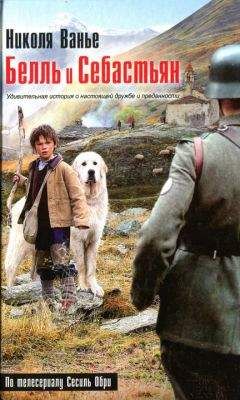Мария Романушко - Если полететь высоко-высоко…
Я тоже почти не спала, слишком узко нам было на одной полке, да и твои вздохи и ворчание не давали мне уснуть. Думаю, ты не спал ещё и из-за голода. Ты очень плохо поел перед отъездом, а в поезде, к тому, что я приготовила в дорогу, вообще ни к чему не прикоснулся. Ты требовал свою любимую гречневую кашу, но где мне её было приготовить? И ты решил лучше голодать, чем есть бутерброды. А слово горца – железное слово!
Стучали колёса, мелькали фонари на ночных полустанках… постепенно светлело небо на горизонте…
* * *
Вышли на пустынный, залитый 30-градусной жарой, перрон… Кроме нас, на этой станции никто больше не сошёл.
Нас встречала бабушка Дора. Увидела нас, пошла торопливо вдоль платформы, опираясь на палочку, а в другой руке – букетик оранжевых бархатцев и ноготков… Моя милая, старенькая бабушка… Сердце у меня защемило при виде её…
* * *
В этом городке мы прожили ровно месяц. Долгий, мучительный, но всё равно прекрасный…
Бабушкин дом стоит рядом с большим городским парком, в парке – река Самара, пляж с белым песочком, на другом берегу – лес. И окна бабушкиной квартиры смотрят на всю эту красоту… До пляжа идти две минуты. Можно идти прямо из дома босиком и в купальнике. Такое вот курортное место.
Бабушка не нарадуется, что её золотой правнук наконец-то у неё в гостях. У бабушки большие планы по нашему откармливанию, она считает, что мы оба слишком тощие, и нами надо всерьёз заняться…
* * *
Гуляем по городу: когда-то тут шли бои…
Переходим по мосту Самару: этот мост когда-то охраняли немцы, и моя мама-девочка переходила его, каждый раз рискуя жизнью, потому что несла бланки документов для партизан…
По вечерам, когда Антон уже спит, мы подолгу засиживаемся с бабушкой на кухне, и она мне рассказывает – про то, как всё было… Про подполье, про предательство, про расстрел моего деда Андрея, про гестапо, про пытки… Я это слышала уже много раз, но бабушка опять мне рассказывает… Столько лет прошло, а она не может забыть – да и как это забудешь?… И можно ли об этом не говорить, когда это не отпускает?…
* * *
А на братской могиле, где похоронен мой дед, нет его фамилии. Это грустно… И неправильно, несправедливо! Но бабушка говорит, что ничего уже не сделаешь.
А раньше – фамилия деда была. Раньше – когда могила была в другом месте, на окраинной улочке города. Это тоже была братская могила, со списком имён. Бабушка меня привозила туда, когда я была ещё ребёнком. Я помню эту могилу, с простым, даже бедным памятником из какой-то белой жести… Но там было почему-то хорошо. Вокруг – маленькие домики, каштаны и акации, густая трава, жаркое солнце и шмели…
Но потом останки подпольщиков перенесли в центр города, где устроили целый мемориал из белого мрамора, с красивым памятником и вечным огнём. Здесь же захоронили и солдат, которые погибли при освобождении города от немцев. Но почему-то имена солдат и офицеров написаны, а подпольщиков – только несколько человек… Бабушка говорит: «Не удосужились…» Такая вот грустная история.
И нигде, нигде нет имени моего деда, Андрея Ивановича Панченко, который был одним из руководителей Новомосковского подполья, был схвачен по доносу предателя, и был расстрелян…
…Потом, через много лет, я прочту книгу про Новомосковское подполье – и… не найду в ней имён своих близких, которые ходили на опасные задания, постоянно рискуя жизнью. Ни имени деда в той книге не найду, ни имени бабушки, ни имени мамы. И я вспомню горькие рассказы бабушки про то, что после войны многие, желая получить какие-то льготы, «приписывали» себя к подполью. Те, которых и близко там не было… А имена реальных героев были вычеркнуты из книг, со стел… Но – неужели и из памяти?!
Но я помню. И буду помнить всегда, что у меня был дед, которого я ни разу в жизни не видела, и который не успел стать дедом. Ему было сорок пять лет, по возрасту его на фронт не взяли, и он стал подпольщиком. Его расстреляли фашисты, на глазах у его пятнадцатилетней дочери Лиды – моей мамы… А бабушку, Дарью Лаврентьевну Панченко, тоже схватили по доносу предателя, пытали в гестапо, приговорили к расстрелу, но потом сослали в лагеря смерти… А моей маме, Лиде Панченко, удалось бежать из-под самого носа преследователей и чудом спастись.
Я это буду помнить всегда. Это записано в моей памяти и в моих генах…
* * *
По вечерам, когда спадает жара, мы много гуляем, по старым довоенным улочкам, по щербатым булыжным мостовым, щиплем чёрную сладкую шелковицу прямо с деревьев…
…Сидели на берегу, на старых перевёрнутых лодках, пахнущих сухой тиной и старой тоской… И почему-то не верилось, что когда-нибудь мы сядем в поезд… и вернёмся в лоно дождей – в Москву, на Беломорскую улицу…
* * *
Тихо бродим с Антошей кривыми горбатыми улочками на закате дня, выискивая старые домики, которыми можно полюбоваться.
Мой сынок воспитан на архитектурном очаровании Грачёвки. А здесь, в небольшом городке, который можно обойти весь за пару часов, здесь соседствует старое и новое, на одной улице, рядышком, стоят новые девятиэтажки, довоенные здания и дореволюционные особнячки. Тут-то я и увидела, что мой мальчик прекрасно умеет уже различать настоящее в архитектуре от преходящего, безликого, плоского.
Идём с ним по улице – и он тут же видит то, что надо увидеть.
– Мама, мама, смотри, какой красивый домик!
Я никогда не подсказываю ему, мне интересно: заметит ли? И Антон ещё ни разу не пропустил стоящего внимания дома. Вижу, что созерцание какого-нибудь особнячка доставляет ему прямо-таки наслаждение. Я даже думаю, что архитектура на этот месяц заменила ему музыку.
– Мама, а почему дом чем старее, тем красивее?
Ходит и высматривает «старенькие хорошенькие домики».
* * *
Но музыки Антоше всё-таки очень не хватает. Он даже плакал несколько раз:
– Хочу музыки! Не могу так! Хочу музыки!
И это при том, что через дорогу от нашего дома – ресторан, и мы по вечерам буквально глохнем от музыки!
– Антоша, разве тебе мало музыки?
– Это НЕ ТА музыка! Хочу другой… – плачет Антон.
А у бабуси ни проигрывателя с пластинками нет, ни по телевизору ничего подходящего не передают. Здесь другое телевиденье – местное.
Но как-то вечером по радио передавали оперу, не помню, что именно, пели итальянские певцы. Так Антон весь вечер просидел у радио, буквально вклеился в репродуктор, задумчивый и отрешённый…
* * *
Самое, конечно, замечательное в Новомосковске – это Собор, уникальный памятник 18 века. Деревянный, девятикупольный… Это такое чудо, такая музыка, такая совершенная красота!… Местные жители уже привыкли к нему, а мы не можем налюбоваться. Антоша говорит о нём: «Наш Собор».
– Пойдём посмотрим на наш Собор. Как там сегодня наш Собор?…
А Собор каждый день – новый, неожиданный – в ясную и пасмурную погоду, на утреннем солнышке и на закате… Всё ходим и ходим вокруг него, выискивая новые точки обзора. Иногда ходим на крутой мост через Самару, и там стоим на ветру и смотрим на наш Собор, мощный и лёгкий, огромный и игрушечный одновременно – жемчужина украинского деревянного барроко.
Неужели здесь когда-то шла служба?…
(И могла ли я подумать тогда, что настанут такие времена, когда под сводами этого Собора опять затеплятся свечи, и запоёт церковный хор, и батюшка с амвона возгласит: «Господу помолимся!» Могла ли я подумать? И что я буду стоять в толпе прихожан и молиться о своих любимых…)
* * *
Купания на Самаре… Бабушкины угощения… А мы приехали со своей гречневой кашей! Ничего, кроме каши, Антон есть не хочет. Бабушка обижается.
А по ночам я сижу на кухне за рукописями… Я и сюда взяла с собой работу, мне надо отрецензировать гору рукописей и, когда вернёмся в Москву, тут же перепечатать рецензии на машинке и отнести их в Детгиз. Бабушка огорчается:
– Ты так и не отдохнёшь совсем!
* * *
Здесь в парке, через дорогу от бабушкиного дома, – прекрасный качельно-карусельный городок, настоящее маленькое царство. Уж Антон накачался и накружился за этот месяц!… Такой красоты он ещё не видел в своей жизни.
А качели – это всегда ритм для стихотворчества. В Новомосковске, за этот месяц, Антоша сочинил чудесные стихи, которые я очень люблю.
* * *
Тик-тик-так…
И большущая Голофомэ
Сидит на веточке.
И «ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку», –
Тихо, потихоньку
Кукукает кукушка…
Тихо-тихо Голофомэ поёт
И ягодки с дерева клюёт.
«Тик-тик-так», – стучат часы,
Простучали двадцать четыре часа ночи…
А однажды вечером, уже темно было, и только луны фонарей светили среди густой листвы, Антон, медленно и в одиночестве, так как все ребята уж разошлись, крутился на карусели и пел в упоении такую песню, на ходу сочиняя её: