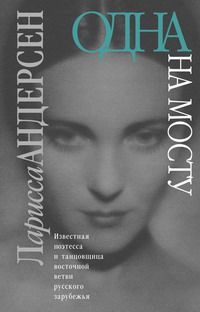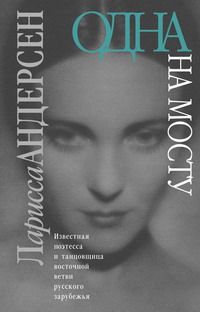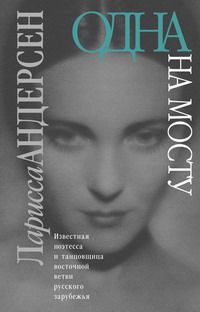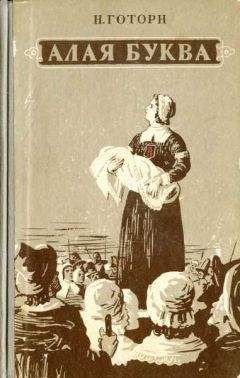Натаниель Готорн - Алая буква (сборник)
Перл то ли заметила и переняла чувства матери, то ли сама почувствовала отчужденность и недосягаемость, окутавшие священника. Пока процессия проходила мимо, девочка не могла устоять на месте, трепеща, словно птица, готовая вот-вот упорхнуть. Когда все прошли, она заглянула Эстер в лицо.
– Мама, – спросила она. – Это был тот самый священник, что поцеловал меня у ручья?
– Тише, тише, милая моя Перл! – прошептала ее мать. – Мы никогда не должны говорить на рыночной площади о том, что случилось с нами в лесу.
– Я не уверена, что это был он – он так странно выглядел, – продолжила девочка. – А то я подбежала бы к нему и попросила бы поцеловать меня снова, перед всеми этими людьми, как тогда, под старыми мрачными деревьями. Что бы священник ответил мне, мама? Схватился бы он рукой за сердце и рассердился бы на меня и попросил бы уйти?
– А что бы он сказал тебе, Перл, – сказала Эстер, – помимо того, что сейчас не время для поцелуя и что поцелуям не место на рыночной площади? Хорошо, глупое дитя, что ты не стала с ним говорить!
Новый оттенок того же чувства к мистеру Диммсдэйлу был проявлен персоной, чья эксцентричность, безумная, как следует ее определить, позволяла ей делать то, на что не смогли бы отважиться добрые горожане, – и теперь позволила на глазах у общества начать разговор с носительницей алой буквы. То была миссис Хиббинс, которая, в своем великолепном наряде с тройными брыжами, расшитым корсажем и пышным бархатом платья, вышла, опираясь на трость с золотым набалдашником, наблюдать процессию вблизи. Поскольку эта почтенная леди была известна (за что впоследствии ей пришлось заплатить жизнью) как ведущая исполнительница всех ритуалов черной магии, которые распространялись все шире, толпа расступалась перед ней, боясь прикоснуться к ее облачению, словно в широких бархатных складках могла затаиться чума. От вида разговора с Эстер Принн – какие бы добрые чувства многие ни испытывали к последней, – страх перед миссис Хиббинс удвоился, что привело к суматошному движению в той части площади, где находились обе женщины.
– Способно ли смертное воображение постичь такое? – конфиденциально шепнула старая леди. – Вон тот священник! Люди считают его святым на земле, и таковым, я должна признать, он действительно сейчас выглядит! Кто же теперь, увидев его в процессии, мог бы подумать, что не так уж давно он выбирался из своего кабинета, пережевывая старые строки еврейской библии, полагаю, чтобы подышать лесным воздухом! Ага! Мы знаем, что это значит, Эстер Принн! Но, истинно говорю, я едва ли могу поверить, что это все тот же человек. Я видела многих церковников, шагавших за музыкантами, среди тех, кто танцевал со мной под музыку Неназываемого, и тогда же индейский пау-вау или лапландский волшебник менялись с нами парами! Все то безделица для женщины, которая знает этот мир. Однако не этот священник. Разве можешь ты быть уверена, Эстер, что это тот самый мужчина, что говорил с тобой на лесной тропе?
– Мадам, я не знаю, о чем вы говорите, – ответила Эстер Принн, чувствуя, что миссис Хиббинс не в своем уме, и все же пораженная и испуганная уверенностью, с которой та признавала личную связь столь многих людей (и себя в том числе) с Врагом рода людского. – Мне не пристало разговаривать с такими учеными и благочестивыми вестниками Слова Божия, как преподобный мистер Диммсдэйл.
– Фи, женщина, постыдись! – воскликнула старая леди, потрясая перед ней пальцем. – Неужто ты думаешь, что я бывала в лесу столько раз и не научилась определять, кто еще там бывал? Да, хоть ни один листок не сорвался с их диких венков, когда они там танцевали! Я знаю тебя, Эстер, и вижу твою метку. Мы все прекрасно видим ее в этом солнечном свете! Она сияет, как алое пламя во тьме. Ты носишь ее открыто, и в этом вопросов нет. Но этот священник! Позволь мне сказать тебе на ухо. Когда Черный Человек видит одного из своих слуг, что скрепил договор подписью и печатью, а затем стыдится своей связи с ним, как преподобный мистер Диммсдэйл, уж у него есть способ сделать так, чтоб метка была открыта при свете дня и на глазах всего мира! Что так пытается спрятать священник, все прижимая ладонь над сердцем? А, Эстер Принн?
– А что же, добрая миссис Хиббинс? – жадно спросила маленькая Перл. – Вы это видели?
– Неважно, дорогая! – ответила миссис Хиббинс, отвечая Перл почтительным реверансом. – Ты сама скоро увидишь, так или иначе. Говорят, дитя, что ты наследница самого Принца Воздуха! Полетишь ли ты однажды ночью вместе со мной повидать своего отца? И уж там-то ты узнаешь, почему священник прижимает руку над сердцем!
Рассмеявшись так пронзительно, что вся площадь ее услышала, странная старая леди последовала прочь.
К этому времени предварительная молитва еще возносилась в молельном доме и голос преподобного мистера Диммсдэйла слышался даже у эшафота. Непреодолимое чувство удерживало Эстер поблизости. В самом святом доме было слишком многолюдно, чтобы еще одна слушательница могла туда протиснуться, а потому Эстер заняла место вблизи эшафота. Расстояние было слишком большим, чтобы различить всю проповедь, и та долетала в виде неразличимых, но разнообразных всплесков в потоке выразительного голоса преподобного.
Его голос был сам по себе величайшим даром, настолько, что слушатель, даже не зная языка, на котором говорил священник, мог все же завороженно покачиваться от одного лишь тона и модуляций. Как и вся другая музыка, голос дышал страстью и торжеством, эмоциями высокими или нежными, на языке, известном человеческим сердцам любого рода и образования. Церковные стены приглушали звук, и Эстер Принн вслушивалась с такой напряженностью, с такой симпатией и нежностью, что проповедь обретала для нее собственный смысл, совершенно не связанный с неразличимыми словами. Возможно, будь слова чуть более различимы, они стали бы более грубым проводником и затмили духовный смысл. Сейчас она различала низкий полутон, как у ветра, что готов вот-вот стихнуть, затем подъем, набирающий все больше сладости и мощи, пока звук не окутал ее атмосферой благоговения и величественного торжества. И все же, каким бы величественным ни становился голос, в нем постоянно звучала нота искренней мольбы. Громким или тихим было то выражение страдания – шепотом или криком, как могло показаться, страдающего человечества, оно проникало в каждое сердце! Порой только эту глубокую ноту страдания и можно было различить звенящей в установившейся тишине. Но даже когда голос священника становился громким и повелительным, когда устремлялся ввысь, не зная преград, когда набирал величайшей широты и силы, что захлестывала церковь и прорывалась наружу сквозь толстые стены, чтоб раствориться в свободном воздухе, – стоило прислушаться внимательнее, зная, что нужно искать, и тот же крик боли становился более чем ясен. Что это было? Жалоба человеческого сердца, измученного печалью и, возможно, виной, стремящейся открыть свой секрет широкому сердцу других, моля о сочувствии и прощении каждый миг, каждой нотой, и не напрасно! Именно этот глубокий и постоянный оттенок и придавал голосу священника силу, положенную ему по праву.
Все это время Эстер стояла неподвижно, словно статуя, у подножия эшафота. Если бы голос священника не удержал ее там, то удержала бы неотвратимая притягательность того места, где она встретила первый час своей жизни в безбрежном позоре. В ней жило ощущение – слишком слабо определенное, чтобы стать мыслью, но тяжело довлеющее над сознанием, – что вся сфера ее жизни, прежней и последующей, связана с этой точкой, которая словно сочетала их в единое целое.
А в это время маленькая Перл покинула свое место возле матери и теперь играла по собственному разумению на рыночной площади. Она озаряла мрачную толпу, как радостный яркий лучик, как птичка в ярком оперении оживляет всю темную древесную крону, порхая туда и сюда, то скрываясь, то показываясь в сумрачной густоте листвы. Ее движения становились зачастую резкими и прерывистыми. В них отражалась неустанная живость ее духа, сегодня вдвойне неутомимого в своем танце, поскольку его питало и в нем отдавалось беспокойное состояние матери. Всякий раз, когда Перл видела нечто, вызывающее ее неустанное живое любопытство, она подбегала к источнику и, можно даже сказать, завладевала человеком или вещью. Словно делала тех своей собственностью до тех пор, пока не теряла интереса, ничуть при этом не контролируя свои собственнические порывы. Пуритане смотрели на нее и, даже несмотря на редкие улыбки, склонны были провозгласить это дитя дьявольским отродьем, настолько неописуемо было очарование той красоты и эксцентричности, что излучала маленькая фигурка и чем искрились ее занятия. Она подбежала и заглянула в лицо дикого индейца, который внезапно осознал существование природы более дикой, чем его собственная. Затем, все с той же врожденной отвагой, которую, впрочем, умела сдерживать, она впорхнула в самый центр группы моряков, смуглолицых дикарей океана, родственных дикостью индейцам на суше. Те с изумлением и восхищением глазели на Перл, как на клочок морской пены, что принял облик маленькой девочки и наделен душой из морского огня, порой сияющего под килем в ночное время.