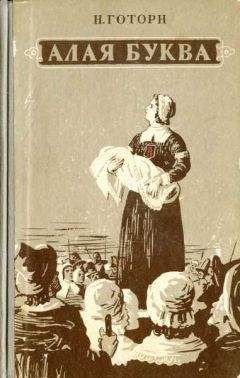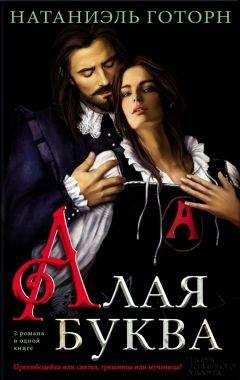Натаниель Готорн - Таможня (Вступительный очерк к роману Алая буква)

Обзор книги Натаниель Готорн - Таможня (Вступительный очерк к роману Алая буква)
Готорн Натаниель
Таможня (Вступительный очерк к роману 'Алая буква')
Натаниель Готорн
ТАМОЖНЯ
(Вступительный очерк к роману "Алая буква")
Хотя я и не склонен распространяться о себе и своих делах, сидя у домашнего очага или в кругу друзей, все же, как ни странно, мною дважды овладевал биографический зуд, понуждая обратиться непосредственно к публике. Впервые это случилось года четыре назад, когда без всяких разумных причин, которые мог бы привести в качестве оправдания снисходительный читатель или навязчивый автор, я облагодетельствовал общество описанием своей жизни в нерушимой тишине Старой Усадьбы. И так как мне тогда посчастливилось найти за пределами моего уединенного жилища нескольких слушателей, я теперь снова хватаю публику за пуговицу и делюсь с ней воспоминаниями о моей трехлетней работе в таможне. Никто еще так добросовестно не следовал примеру знаменитого "П. П., приходского писца". Дело, по-видимому, в том, что когда автор отдает на произвол стихий исписанные им листки, он обращается не к тем многочисленным читателям, которые сразу же отложат книгу в сторону или вовсе не возьмут в руки, а к тем немногим, которые поймут ее лучше, чем большинство спутников его юности и зрелых лет. Конечно, некоторые писатели идут куда дальше и позволяют себе пускаться в такие откровенные признания, какие человеку дозволено делать в присутствии лишь одного-единственного, родственного ему по духу и сердцу, существа. Как будто брошенная в шумный мир книга непременно отыщет отделившуюся от автора половинку и соединит его с нею, тем самым восполнив круг его существования! Однако вряд ли пристойно говорить все - даже когда говоришь от третьего лица. И так как мысль съеживается, а язык примерзает к гортани, если у говорящего нет настоящей связи со слушателями, ему простительно воображать, что он беседует с другом, чутким и внимательным, хотя и не слишком близким. От такого приятного сознания наша природная сдержанность оттаивает, мы принимаемся болтать об окружающем и даже о нас самих, по-прежнему, однако, не приподнимая покрова над нашим сокровенным "я". Мне думается, что только в такой степени и в таких пределах писатель может быть автобиографичным, не нарушая при этом ни интересов читателя, ни своих собственных.
Кроме того, очерк "Таможня" еще и потому имеет известное право на существование - право, всегда признаваемое литературой, - что в нем я рассказываю, как попали в мои руки многие страницы этой книги, а также привожу доказательства истинности изложенной в ней истории. Таким образом, единственной настоящей причиной моего прямого обращения к публике является желание показать, что я всего лишь редактор, или чуть больше, этой самой многословной из всех напечатанных мною повестей. Я позволил себе, не отклоняясь от основной цели, дать несколькими дополнительными штрихами беглый набросок людей, чей образ жизни до сих пор нигде не был описан. В числе этих людей находился и сам автор.
В моем родном городе Салеме, вблизи сооружения, которое еще полвека назад, во времена Кинга Дарби, было шумной пристанью, а теперь превратилось в скопище полуразрушенных деревянных складов и почти не обнаруживает признаков торговой жизни, если не считать брига или барка, выгружающего кожи где-нибудь посреди его меланхолических просторов, или шхуны из Новой Шотландии, сбрасывающей у выезда в город груз дров, - повторяю, вблизи этой частенько затопляемой приливом обветшалой пристани, где кайма чахлой травы вокруг вытянутых в ряд строении свидетельствует о вялой, поступи десятилетий, стоит поместительное кирпичное здание, выходящее окнами фасада на это не слишком веселое место и на другой берег бухты. На его крыше ежедневно, ровно с половины девятого утра и до полудня, развевается при ветре и вяло свешивается во время затишья флаг республики. Тринадцать полос на нем расположены не горизонтально, а вертикально, указывая тем самым, что правительство дяди Сэма представлено здесь только гражданскими властями. Балкон над лестницей с широкими гранитными ступенями покоится на деревянных колоннах портика. Вход увенчан огромным экземпляром американского орла с распростертыми крыльями, щитом перед грудью и, если память мне не изменяет, пучком молний вперемежку с зазубренными стрелами в каждой лапе. С обычной неуравновешенностью характера, свойственной этой злосчастной птице, она своими гневными глазами, клювом и свирепостью осанки словно грозит погибелью безобидному населению городка, особенно предостерегая жителей, которым сколько-нибудь дорого их благополучие, от вторжения в пределы, осененные ее крыльями. Тем не менее немало граждан и сейчас пытаются укрыться под крылом федерального орла, видимо полагая, что, несмотря на его сварливый вид, грудь у него мягка и уютна, как пуховая подушка. Но даже в лучшие минуты он не слишком добродушен и рано или поздно - скорее рано, чем поздно, - отгоняет своих птенцов, предварительно исцарапав их, клюнув или ранив зазубренной стрелой.
Обильная трава в расселинах мостовой вокруг описанного нами здания - с этой минуты мы будем называть его портовой таможней - говорит о том, что за последнее время оно не подвергалось буйному натиску, деловой жизни. Однако в иные месяцы выпадают такие утра, когда дела движутся оживленнее. В этих случаях старожилы могли бы вспомнить о годах перед последней войной с Англией, когда Салем был настоящим портом, а не таким, как сейчас, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, которые не препятствуют его пристаням ветшать и осыпаться, между тем как товары этих купцов бесполезно и незаметно вливаются в мощный поток нью-йоркской и бостонской торговли. В такие утра, когда несколько судов, большей частью африканских или южноамериканских, одновременно прибывают или готовятся к отплытию, на гранитных ступенях звучат торопливые шаги многих поднимающихся и спускающихся людей. Здесь можно встретить, прежде чем его встретит собственная жена, только что вернувшегося в порт загорелого шкипера, который несет под мышкой облупленную консервную жестянку с судовыми документами. Сюда же приходит судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или насупленный, в зависимости от того, какие товары доставлены по его указанию из только что закончившегося плаванья, - такие, которые быстро превратятся в золото, или же, напротив, такие, что лягут на плечи хозяина громоздким, никому не нужным грузом. Здесь мы также видим зародыш морщинистого, седобородого, измученного заботой купца в лице молодого расторопного клерка, который входит во вкус торговли, как волчонок - во вкус крови, и уже отправляет собственные товары на хозяйском корабле, хотя ему больше пристало бы пускать кораблики у мельничной запруды. Видим мы на пристани и уходящего в дальнее плаванье матроса, которому нужно свидетельство о гражданстве, и другого матроса, только что высадившегося, худого и бледного, ожидающего направления в госпиталь. Не следует забывать и капитанов обветшалых шхун, привозящих дрова из британских владений, - грубоватых моряков, не обладающих внешней живостью янки, но вносящих немаловажную лепту в нашу хиреющую торговлю.
Если собрать всех этих людей, как они порой собирались на самом деле, и присоединить к ним для разнообразия несколько случайных посетителей, таможня на время станет весьма оживленным местом. Однако, поднявшись по ступенькам, вы значительно чаще увидите на площадке перед входом, если дело происходит летом, или в соответственных помещениях, если холодно и дождливо, почтенных джентльменов, развалившихся в старомодных креслах, откинутых на задних ножках спинками к стене. Обычно эти джентльмены спят, но иногда вступают в разговор между собой. Их голоса, сильно напоминающие храп, отличаются тем отсутствием энергии, которое свойственно обитателям богаделен и прочим человеческим существам, полностью зависящим от благотворителей, от пожизненной должности, словом, от чего угодно, только не от их личных усилий. Описанные старцы, сидящие, подобно Матфею, у входа в таможню, но едва ли могущие рассчитывать на то, что их призовут к совершению апостольских деяний, и являются таможенными чиновниками.
Дальше, по левую руку от входной двери, расположена контора - комната размером пятнадцать на пятнадцать футов, с очень высоким потолком и тремя полукруглыми окнами; два из них выходят на упомянутую запустелую пристань, третье - на узкий переулок и прилегающую к нему часть Дарби-стрит. Из всех трех видны лавки бакалейщиков, такелажных мастеров, старьевщиков и мелких торговцев, у чьих дверей толпятся, смеясь и болтая, отставные моряки и разные сомнительные личности, неизбежные в любом портовом квартале. Грязные крашеные стены комнаты затянуты паутиной, а пол посыпан серым песком, чего в других местах уже давным-давно никто не делает; общая неопрятность этого святилища говорит о том, что туда почти нет доступа женскому полу с его магическими орудиями - веником и шваброй. Вся обстановка состоит из печи с огромным вытяжным колпаком, старой сосновой конторки, треногого табурета возле нее, нескольких необычайно ветхих, неустойчивых стульев с деревянными сиденьями и - весьма важная подробность - из библиотеки, то есть книжных полок, на которых стоят десятка четыре томов постановлений Конгресса и объемистых справочников о таможенных сборах. Сквозь потолок пропущена жестяная труба, через которую можно переговариваться с другими помещениями таможни. И вот, с полгода назад, в этой комнате ходил из угла в угол или сидел на высоком табурете, опершись локтем о стол и рассеянно просматривая утреннюю газету, тот самый человек, который когда-то приветствовал вас, дорогой читатель, на пороге своей уютной рабочей комнатки в Старой Усадьбе, куда так весело заглядывали сквозь ветви ив лучи клонящегося к западу солнца. Но если бы вы захотели повидать его в таможне сейчас, то напрасно справлялись бы о надзирателе - ставленнике демократов; метла преобразования вышвырнула его оттуда, и теперь новый, более достойный человек занимает его место и получает его жалованье.