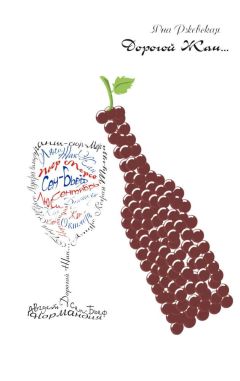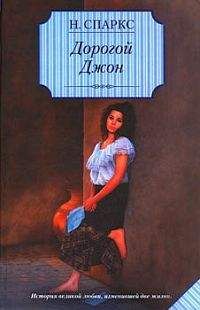Джон Голсуорси - Девушка ждёт
– Если вы подарите мне вашу фотографию, я буду хранить ее всю жизнь.
– Конечно, подарю. Не знаю, есть ли у меня приличная, но пришлю вам лучшее, что найду.
– Спасибо. Если позволите, я здесь сойду; мне трудно владеть собой. Машина вас доставит куда нужно.
Он постучал по стеклу и сказал несколько слов шоферу.
– Прощайте! – сказал он, снова взял ее руку, посмотрел на нее долгим взглядом, сильно ее сжал и протиснул в дверцу свои могучие плечи.
– Прощайте! – шепнула Динни, откинувшись на сиденье и чувствуя, как у нее сдавило горло.
Через пять минут машина остановилась у дома Дианы, и Динни вошла туда в самом подавленном настроении.
Когда она проходила мимо комнаты Дианы, которой сегодня еще не видела, та приоткрыла дверь.
– Зайдите на минутку, Динни.
Она говорила шепотом, и у Динни мороз пробежал по коже. Они сели рядом на большую кровать, и Диана торопливо прошептала:
– Он пришел ко мне вчера вечером и остался. Я не посмела ему отказать. – В нем какая-то перемена; у меня предчувствие, что это начинается снова. Он все больше теряет над собой власть, во всем. Мне кажется, надо поскорее убрать детей. Хилери их возьмет?
– Не сомневаюсь; не то их возьмет мама.
– Может быть, это будет еще лучше.
– А вы не думаете, что вам и самой лучше уехать?
Диана вздохнула и покачала головой.
– Это только ускорит дело. Вы не могли бы увезти детей?
– Конечно. Но вы в самом деле думаете, что он…
– Да. Я уверена, что он все больше взвинчивает себя. Я слишком хорошо знаю симптомы. Вы заметили, что он и пить стал больше по вечерам? Одно к одному.
– Хоть бы он пересилил свой страх и стал выходить из дому!
– Боюсь, что это уже не поможет. Дома мы по крайней мере знаем, что с ним; мы сразу заметим, если произойдет самое худшее. Я так боюсь, как бы чего-нибудь не случилось при посторонних; тогда у нас руки будут связаны.
Динни стиснула руку Дианы.
– Когда мне увезти детей?
– Чем скорее, тем лучше. Ему нельзя об этом говорить. Вам придется уехать тайком. Если ваша мама сумеет взять к себе и мадмуазель, она поедет отдельно.
– Я, конечно, сразу же вернусь.
– Динни, я не решаюсь вас об этом просить. Я не одна, тут прислуга. Не могу же я сваливать на вас мои неприятности.
– Вернусь, не спорьте. Я возьму машину у Флер. Он не рассердится, что дети уехали?
– Только если поймет, что их отослали из-за него. Я скажу, что их давно уже пригласили.
– Диана, – спросила вдруг Динни, – вы его еще любите?
– Люблю? Нет!
– Значит, это только жалость?
Диана покачала головой.
– Сама не знаю; тут и прошлое, и сознание, что, если я его брошу, я помогу судьбе его добить. Страшная мысль!
– Понимаю. Мне жаль и вас обоих и дядю Адриана.
Диана провела ладонями по лицу, словно стирая с него всякие признаки волнения.
– Не знаю, что у нас впереди, но зачем мучиться заранее? Что касается вас, дорогая, ради бога, не давайте мне отравлять вам жизнь.
– Ничего. Мне сейчас полезно отвлечься. Знаете поговорку: старой деве нужна встряска, а потом венец и ласка.
– А когда же у вас будет венец и ласка, Динни?
– Я только что отказалась от безбрежных просторов прерий и чувствую себя негодяйкой.
– Вы – на распутье между безбрежными просторами прерий и морской пучиной, да?
– Боюсь, что так и останусь на распутье. Любовь порядочного человека и тому подобное, видно, ничуть меня не трогает.
– Подождите! С таким цветом волос в монастырь не берут.
– Я покрашусь в свой настоящий цвет: льдины ведь зеленоватые.
– Говорю вам, – подождите!
– Подожду, – сказала Динни.
Через два дня Флер сама привела машину к дверям дома на Окли-стрит. Детей и багаж погрузили без всякой помехи, и они тронулись в путь.
Путешествие было томительным – дети не привыкли к прогулкам в машине, – но Динни оно показалось настоящим отдыхом. Она и не подозревала, как действовала ей на нервы трагическая обстановка на Окли-стрит; а ведь прошло всего восемнадцать дней с тех пор, как она уехала из Кондафорда. На деревьях ярче горели осенние краски. Ясный октябрь сиял нежным, мягким светом; в воздухе, как только они удалились от города, потянуло любимым запахом моря, из деревенских труб поднимался дым, а со сжатых полей взлетали грачи.
Они поспели как раз к обеду, и, оставив детей с мадмуазель, которая приехала поездом, Динни пошла гулять с собаками. Она остановилась у старого домика – он возвышался над проходившей внизу дорогой. Входная дверь открывалась прямо в жилую комнату, где при скудном огне сидела одинокая старушка.
– А! Мисс Динни! – сказала она. – Ну и как же я рада. Не видела вас, почитай, целый месяц.
– Я уезжала, Бетти. Как поживаете?
Маленькая старушка – она была совсем карманного формата – важно сложила руки на животе.
– Опять животом маюсь. А вообще-то я здорова, – доктор говорит, я молодец. Вот только живот донимает. Говорит, мне надо есть побольше, да мне и самой хочется, мисс Динни. А как съем кусок, так сразу тошно, ей-богу, правда.
– Бедная, как мне вас жалко.
– От живота одни неприятности. От живота и от зубов. Не знаю, зачем только они нам. Нет зубов – ничего не прожуешь, живот болит, есть зубы – жуешь, а он все равно болит.
Старушка тоненько захихикала.
– Он еще говорит, будто мне и остальные зубы надо выдернуть, мисс Динни, а мне их жалко. У отца зубов совсем нет, а он яблоко запросто разгрызает, праве слово! Но в мои годы мне уже не дождаться, пока десны затвердеют, как у него.
– Но вы можете вставить чудесные искусственные зубы.
– Ну уж нет! Не хочу чужих зубов, – еще подумают, что я важничаю. Вы бы сами, мисс Динни, небось не захотели иметь чужие зубы.
– Наоборот. В наши дни почти у всех вставные зубы.
– Ох, и любите же вы пошутить! Нет, чужих зубов мне и даром не надо. Все равно что парик носить. А вот волосы у меня еще густые. Для моих лет я молодец. Есть за что бога благодарить; только вот животом маюсь, будто там что-то точит.
Динни увидела, как глаза ее потемнели от боли.
– А как поживает Бенджамин?
Глаза повеселели и в то же время стали снисходительными, как у взрослого, когда он говорит о ребенке.
– Отец-то здоров; его ничего не берет, вот ревматизм только. Он сейчас на огороде, копается там помаленьку.
– Ну, а как поживает Щеглушка? – спросила Динни, печально разглядывая щегла в клетке.
Ее всегда возмущало, что птиц сажают в клетки, но она не решалась сказать об этом старикам, державшим взаперти своего веселого любимца. А кроме того, говорят, если выпустить на волю ручного щегла, другие птицы тут же заклюют его до смерти.
– А! – сказала старушка. – Он совсем нос задрал с тех пор, как вы подарили ему такую большую клетку. – Глаза ее заблестели. – Подумать только, капитан женился, мисс Динни! А в суд-то его потащили – надо же! Чего только не выдумают! В жизни не слыхала ничего подобного. Чтобы Черрела потащили в суд! Невиданно и неслыханно!
– Да, вы правы, Бетти.
– Говорят, она красавица. А где они жить будут?
– Никто еще не знает; надо подождать, пока это дело уладится. Может быть, поселятся здесь, а может, он получит назначение за границу. Конечно, денег у них будет очень мало. Ужас какой; прежде ничего такого не бывало. Боже ты мой, до чего сейчас туго приходится знатным господам! Я ведь помню вашего прапрадеда, мисс Динни, – ездил в экипаже четверкой, когда я еще под стол пешком ходила. Такой красивый старый господин был, такой обходительный.
Динни всегда чувствовала неловкость, когда при ней жалели знать, – она-то ведь помнила, что эта старушка была одной из восьмерых детей батрака, зарабатывавшего одиннадцать шиллингов в неделю, и что теперь они с мужем, вырастив семерых детей, доживали свой век на пенсию по старости.
– Ну, Бетти, что же вам все-таки можно есть? Я скажу кухарке.
– Благодарю душевно, мисс Динни; кусочек постной свининки мне, пожалуй, не повредит. – Глаза ее снова потемнели и затуманились болью. – Так живот болит, что иной раз думаешь, – поскорей бы бог прибрал.
– Ну что вы, милая Бетти. Если вас немножко подержать на легкой пище, вы у нас поправитесь.
Лицо старушки сморщилось в улыбке, но глаза были грустные.
– Для моих лет я молодец, грех жаловаться. А когда же вы под венец, мисс Динни?
– До этого еще далеко, Бетти. Одна под венец не пойдешь.
– Да, теперь люди не торопятся с женитьбой и детей столько не рожают, как в мое время. Тетка моя родила восемнадцать и вырастила одиннадцать.
– Пожалуй, для них теперь не хватило бы ни места, ни работы.
– Да, большие кругом перемены.
– У нас тут, слава богу, перемен меньше, чем в других местах.
И Динни оглядела комнату, где эти старики провели пятьдесят лет своей жизни; от кирпичного пола до бревенчатого потолка комната вся сияла безупречной чистотой и уютом.