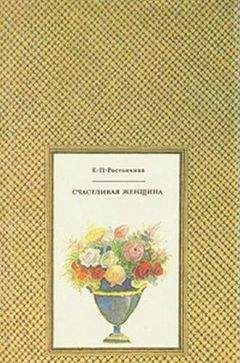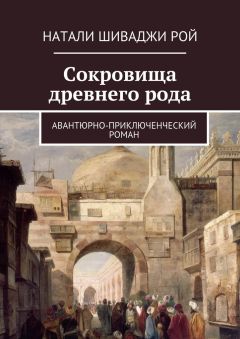Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Заимские мужики, в отличие от сельских и деревенских, сеяли картошку за околицей, на лесных еланях[32], ибо не имели земли под огороды — таёжный хребет теснил заимку к озеру; и не городили оград, отчего скарб лежал, торчал, висел наголе и наготове: топорщились воткнутые в небо оглобли саней, а рядом с баграми, вилами и долгими, тонкими пёхлами — невод запихивать под лед, рядом с лопатами, сачками и пешнями отдыхали под навесами бочки, кадушки, лагушки, на весь свой век пропахшие солёным окунёвым и чебачьим рассолом; тут же, на бичевках, натянутых меж листвяков, берез и сосен, полоскалось на ветру немудреное, выжелтившее рыбацкое бельё; на чушачьих загородках обвисали куски рваной неводной тони, и от всего наносило протухшей солёной рыбой с душком.
Игорь брёл среди раскрытых изб, смущённо оглядываясь по сторонам, стесняясь приступившего, радостного волнения и вроде, забыв, по какой нужде очутился на безлюдной рыбацкой заимке.
И в Яравне Игорюха гащивал подростком, — на заимке бобыльничала материна сестра, тётка Фрося, и…пока не ушла на инвалидную пенсию… числилась учётчицей на рыбпункте. Похожая на сестру Авдотью, Игорюхину мать, такая же махоня, но, в отличие от зашуганной и печальной матери, ласковая, вечно умилённая, Ефросинья в племяше души не чаяла — хоть и без креста, а крестничек, по-деревенски — божатушка, как любовно величала его. Усердно молясь Христу Богу утром и вечером, как её смалу привадила мать, суровая Христинья Андриевская, Игорева бабушка из села Абакумово, тётка Фрося пыталась и малого к молитве привадить. Из милости просила и утром молитовку прочесть, и на сон грядущим, и как сесть за стол, и после застолья: де, Бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Но Игорюха не токмо молитовку прочесть, а дай тётка волю, за-фитилил бы из рогатки по древним образам: красный дьяволёнок вызубрил по школьным учебникам, измочаленным в труху: религия — дурман, коим попы в сговоре с помещиками и буржуями дурили тёмное простолюдье, дабы трудовой народ покорно и смиренно горбатился на буржуев и помещиков; но вот прибежал дедушка Ленин и ка-ак!.. дал по морде буржуям и помещикам, те и полетели кверху раком вместе с церквями и попами. Ведая о сём, племяш не слушал тётку Фросю, кою отец бранил: де, выжила баба из ума, надо в дурдом спровадить. И спровадил бы… Накаркал лекарей, налетели те, яко вороны, и признали: Ефросинья Андриевская не дружит с головой — сдурела на религиозной почве; дали инвалидность, но в дурдом не упекли — смирная, да и в силах себя обиходить.
Начальство рыбзаводское с перепугу турнуло Ефросинью из учётчиц и попросило казённое жильё освободить; вот блажная и укочевала к своей матушке Христинье Андриевской, что спасалась, замаливала грехи в древлем селе Абакумово. По слухам, что коснулись Игорюхиных, по-заячьи навострённых, отроческих ушей, сгубила тётку Фросю война и любовь: зачудила горемычная, когда в послевоенных муках помер горячо любимый жених, так и не ставший законным мужем. Под хромовые наигрыши, балалаечную трень-брень, под вопли матерей и жён, под перестук тележных колёс на вспученных листвяничных и сосновых кореньях, под храп рыбацких коней, накануне венца ушел на войну Фросин возлюбленный, посулив любе писать и после священной брани обвенчаться. А война…харахорились, храбрились… продлится с полгода… Уехал тихий и нежный, не мужик, а русокудрый, синеокий, румянощёкий отрок, а через три года привезли на телеге немощного старика. Раненый, контуженный, отравленный газом, да еще и хвативший лиха в лагерях, сперва — немецком, потом — советском, так и не одыбал, не встал на ноги. Хоть и без венца, а приняла Фрося калешного, перед войной схоронившего отца и мать… Не жилец, помаялся с месяц, помаял Фросю, со скрипом зубов поминая лагерные страсти и падая в обмороки; высох — кожа да кости и упокоился с горем пополам. Поговаривали, самочинно окрестила Фрося страдальца, исповедала, а уж как причащала, бог весть, но, может, положившим живот за други своя и без причастия рай отсулён?..
Сохла, вяла баба на корню, а потом решила беду веревочкой завить, чем душу гноить; и увидела заимка с ужасом: рыбная учётчица ещё повредилась. С ужасом, ибо Фросино помешательство оказалось не тихим, не буйным, а богомольным. Богомолец же…мракобес… в хрущёвское злолетье — лютый враг безбожного советского народа. Можно было простить старика Ждана Хапо-ва, деду сто лет в обед, но Фрося?! — молодая советская труженица, выпускница городского техникума, и старческое мракобесие?! Э-эх, упустила деву компартия, не углядела, когда Фрося, не вкусив бабьей отрады, схоронив суженца, потеряла интерес к жизни и оказалась под тлетворным влиянием матери Христиньи Андриевской, истовой боговерки-богомолки, у которой, по слухам, гостили в Абакумово и бывшие попы, и тайные монашки, отстрадавшие за Христа за колючей проволокой, под суровым богоборческим доглядом. Хотя… спохватились вдруг, раньше надо было думать головой; Фрося и Дуся хлебнули материнского мракобесия смалу, но если Лев Борисович, рьяный партиец, выбил из жены Дуси религиозный дурман, то Фрося, увы, не вырвалась из-под суровой и властной материнской…вернее, божественной… руки. Пожилые жёнки, коих Фросина богомольность не смущала — смалу крещёные, от Христа Бога не отрекались — поговаривали иное: де, Фрося помрачилась разумом по вине деверя — рыбзаводского бухгалтера Льва Борисовича, который к сему ещё и заправлял партийным секретарем. Роднясь…худо-бедно, сестра жены Дуси… будучи в Яравне, Лев Борисович заглядывал к Ефросинье и…плели крапивные языки… даже склонял ко греху, беспрокло подкрадываясь из темени порочных помыслов. Обличители, что недолюбливали оборотистого, ловкого бухгалтера, вообразили, понесли по дворам страшную бывальщину…
Де, однажды, крепко подгуляв с начальством на берегу озера, Лев Борисович в злом и тяжком похмелье завернул в низенькую, косенькую избёнку Фроси. Вдова ли, бобылка ли утром топила русскую печь, раскатав на столешнице хлебные колоба, и встревожилась, когда услышала под окошком утробное урчание рыбзаводского газика, когда высмотрела сквозь щель в занавесках, как Лев Борисыч по-медвежьи неуклюже выбрался из кабины и, повелев шоферу явиться часа через два, тронулся к висящей на одной петле шербатой калитке.
Одутловатый… лишь глаза злыми щелками тускло и мрачно посвечивали из опухшего лица… почерневший от пьянки, мятый и пыльный…ночевали под кустами, где свалил хмель… ввалился в древнюю избушку, где грузно опал на лавку супротив божницы. Мерцающий свет лампадки плавал по тёмным образам, и лики явственно оживали: взблескивало чело, восковой желтизной наливались впалые щеки, пристально и живо светились святые очи.
Отпыхавшись, Лев Борисович выудил из кармана початую бутылку «белой», заткнутую гладко оструганным березовым сучком, припечатал бутылку к столешнице подле хлебных колобов, потом снял долгополый, светло-серый плащ и, бросив на лавку, расстегнул пиджак, ослабил съехавший набок галстук. Уложив руки на толстом брюхе, азартно вгляделся в мелкую, но ладную, румянощёкую от печного жара Фросю, которая, убрав со стола толстую книгу, «… явно, богомольную» — смекнул Лев Борисович, суетливо и боязливо накрывала стол.
— Чо уж Бог послал, не взыщите, Лев Борисыч, — виновато и заискивающе улыбаясь, примостила на краюшке стола гранённый стакан, две краюхи ржаного хлеба, золотисто-копчённых окуней и картохи «в мундире».
— А тебе где стакан?
— Не, не, не! — замахала руками. — Упаси Бог!
— Да пять грамм, Фрося. Все ж таки родня…
— Не-е, я эту заразу на дух не переношу…
— А напрасно, Фрося. Иногда не лишне — веселит душу. А то живёшь, как заплесневелая старуха. А ты ведь ещё молодая, красивая баба…
— Была да сплыла…
— А это надо поглядеть… Что же ты собой жертвуешь?!
— Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит…
— Плетёшь ты, Фрося, плетень, а сама-то соображаешь, что плетешь языком?
Выпив, закусив, веселее и азартнее поглядывая на Фросю, Лев Борисович вздохнул:
— Э-эх, брошу твою сестру да на тебе, Фрося, женюсь, — прошёлся по светелке, вроде приноравливаясь, с какого бока подкрасться к уросливой кобылёнке, глянул на себя в тёмное стекло буфета, приосанился, двумя руками манерно поправил львиную гриву, что, увы, ныне топорщилась лишь за ушами. — Да… Будешь у меня как сыр в масле кататься…
— Ох, не гневи Бога, Лев Борисыч. Жалей сестру Дусю, перед Богом за её ответишь…
— Что мне Бог! — рявкнул, аки лев.
— Не богохуль! — Фрося перекрестилась в красный угол, где мерцала лампадка.
— Нет, Фрося, не верю я во всякие Царствия Небесные. Я как в песне… — Лев Борисович густым басом вывел. — «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно…»