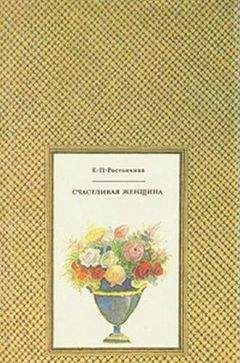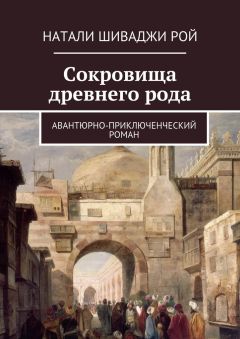Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Может, в игре сей и не таился бы смертный грех, но Игорюха… верно, малой, да гнилой… воровато узревший похоть, куражливо требовал от Ленки, чтобы всё — не понарошку, а взаправдашне, и махонькая жёнушка, трясясь пойманной пичужкой, запоздало сокрушаясь, что поддалась на уговоры, сомустилась на срамную игру, просом просила сходить в гости к Томке с Ванюшкой. А те, легки на помине, уже лезли в их куток. Ленка на манер сельских баб церемонно кланялась, отмахнув рукой у земли, и ради смеха выпевала: «А мы не ждали вас, а вы припёрлися, — потом радушно договаривала. — Здравствуйте, проходите хвастуйте…» «Семейная жизнь» обычно распадалась, едва назрев; никто, бывало, не спугнёт, но женихи и невесты разбегались, переполнившись знобящим страхом, чуя, что игра — поганая, что взрослые, коль прознают, по головке не погладят, осрамят и будут драть нещадно, как Сидоровых коз.
Эдакие срамные, похабные игрища случались лета два, потом девчушки, отучившись в школе первую зиму, вошли в ум, построжали и не поддавались на льстивые уговоры. А ныне, спустя лет пятнадцать, Игорь, в коем отцовское чувство ещё спало беспробудно, да и стыд подрёмывал, не знал верно, как относиться к детским шалостям, а потому никак и не стал относиться, — так легче и проще. Хотя, словно против воли, с неожиданно вспыхнувшим азартом прикинул: «Ныне бы поиграть в “папу с мамой…” — хотел, было, прибавить: «с Ленкой нынешней…», да спохватился, отогнал срамные помыслы. Надеясь на встречу с Ленкой…Еленой Прекрасной, видимо… парень вдохновенно гадал: а не вызреет ли из встречи нечто певучее, красивое, по-величенное страстью?.. Счастливо томящее предчувствие, перемешанное с тревогой, манило парня на рыбачью заимку Яравну, где парнишкой тоже живал, где отпели на озёрном ветру самые счастливые, самые азартные рыбацкие лета.
VIII
«Вот Бог, вот порог, и скатертью дорога!..» — сулят недругу в сердцах, но жизнь недружелюбная даже и домотканый половик не стелила Игорю в родной озерный край; завалили стёжки-дорожки непроходимые, непролазные дела-делишки, житейские страстишки, где блудит горожанин, словно в таёжном буреломе; вертится суетный, яко белка в колесе, бежит сломя голову, бежит, не знай куда и не помня себя, а всё… на месте перебирает семенящими ножонками; бежит, пока не запалится, не провалится в чёрную прорву, так и не поняв, зачем жил, куда торопился, что обрёл и что теперь ждать за жизненным краем, коль душа черна и обуглена смертными грехами.
Ощущение родного села, тяга к степному озеру проснулись нежданно-негаданно и лишь нынче, в тихие ночи, когда Игорь лежал без сна, виделась сверкающая, играющая на солнце, озерная рябь, и он…от горшка два вершка… забредает по теплой отмели, а рядом Ванюшка Краснобаев, Ленка Уварова; и детские лица в солнечном сиянии — иконные лики, а над детьми иконным нимбом изогнулась цветастая радуга… Виделось озеро и на утренней заре, когда из таёжного хребта выплывает серебристо-золотистое солнце, и он, теперь уже юноша, плывёт в парусной лодке…белый парус в зоревом свете алый… и льнёт к нему суженая, смущённо заплетающая и расплетающая густую косу, переброшенную на грудь; а то виделось: загорают они среди песков, белёсых от сухого забайкальского жара, — лежат, сросшись сплетёнными руками, и бездумно, отрешённо глядят, как, разбиваясь о берег, волны ползут к их стопам, присмиревшие, покорные, и ластятся с кошачьим урчанием; а над ними и вокруг них голубое небо, слитое с озером, и блазнится: тихо проплывают они, счастливые и беспечные птицы, над замершей землёй.
Не забывая родной озерный край, Игорь чуял, что вызреет дурнопьяной травой лихое времечко, когда заблудится в страстях, когда городская колготня столь осторчеет, что хоть глаза завяжи и в омут бежи, и тогда он махнёт к озеру отдышаться, одыбать для будущей жизни. Ему было лестно и отрадно, что у него есть своё озеро, своё село. Своё… Худое времечко не заставило долго ждать, громко звать, оно похаживало рядом, незримое, то вознося над парнем костлявую, цепкую руку, то милостиво отводя, копя злые силы.
А жизнь — грех жаловаться: после иркутского университета вернулся в родной город, выросший из казачьего острога в Двуречье Уды и Селенги; прошибся репортером на областное радио; отец после мучительной хвори, проклиная раковую опухоль в печени, а заодно кляня мать и всех родных и близких, помер; овдовевшая мать укочевала к старшей сестре на Алтай, после размена оставив сыну однокомнатное гнёздышко, прозванное «хрущёбой», — живи, сына, по-божески, по-русски: женись, семьей обзаведись, живи-поживай, добра наживай. Ан нет, смалу безконвойный, ныне, без Бога и царя в шальной башке, Игорь и вовсе сбесился: пир горой, дым коромыслом, не то от пляски, не то от таски. И музыка играла, и вино лилось рекой, и пьяные девушки на коленях елозили, и собутыльники льстиво заглядывали в рот, — всё было, да лихо смыло; приступило лихо и так прищемило душу тоской, пустотой, что не будь сокровенной тяги к искусству…он и сам грешил стихами, лелея честолюбивые надежды на будущее… не будь в памяти родного озёрного края, не знал бы, как бы снёс душащую пустоту и одиночество. Услаждает уединение, когда рождаются стихи, но смертельно для души одиночество…
Когда Игорь, будучи студентом университета, навещал с матерью абакумовскую бабку Христинью, та…слышала звон, да не ведала, откуль он… прознав о том, что внучок задурил, наплевал на учебу и лень работать…в пень колотит — день проводит… сухо сплевывала, чуя грешную смуту в душе Игоря: «Молоко на брылах не обсохло, а уж бес корёжит. Тот не унывает, кто на Бога уповает… С жиру бесишься, внучёк, а со Христовым венцом напялил бы хомут семейный, впрягся в работушку, — лишняя дурь бы мигом выскочила. Все грехи от праздности…» Игорь на попреки лишь разводил руками: де, мы — умы, а вы — увы; рожденный ползать летать не может; и «не хлебом единым жив человек…», а чем, если не хлебом, смутно воображал, в отличие от Божиих рабиц Христиньи да Ефросиньи, не ведая Христовой заповеди в полноте: «…но Словом Божиим».
…Приступило лихо: надоело хуже горькой редьки изо дня в день лепить передачи на радио, пустодушно воспевать передовиков производства, подозревая тех либо в тупости, либо в лукавстве и не веря в светлое будущее коммунизма; обрыдла и беспробудная гульба, в какой репортерская шатия-братия топила стыд за ложь и лицемерие.
И любовь… Он вошёл в лета, когда мерещилось: не полюби завтра…беспамятно, безумно и красиво… упустишь времечко, и улетит молодость кобыле под хвост; а что случалось по пьянке, оставляло брезгливый осадок и запоздалое раскаянье. Простенькие, неказистые — на дух не нужны, красотки — порочны и расчётливы, ценят любовное вдохновение, коль есть и финансовое обеспечение. Но позолоченная монета не валяется без дела: лихие парни мигом присмотрят, пустят в оборот, и пойдёт монета по рукам, жадным и потным, и сотрут с монеты позолоту, и оголится серый, скучный, остывший металл.
IX
От районного села до рыбацкой заимки вроде и рукой подать, верст тридцать, но машина, в кузове которой трясся Игорь, скреблась, кажется, целую вечность, огибая два больших озера, пропахивая борозды в поседевших от зноя сыпучих песках. Розоватый закатный свет полинял, осел туманом за хребёт, отсюда далёкий, мутно-голубоватый, похожий на медведя, припавшего к озеру напиться; и парень вспомнил: им, здешним ребятишкам, блазнилось, что на вершине хребта, куда преклоняет солнышко сморённую, закружившую голову, — край земли, острый, обрывистый; и если лечь на живот у самого обрыва и глянуть вниз, узришь город с белыми многоэтажками, с трамваем и мороженным, с богатыми, полными сластей, стеклянными лавками. Манил город деревенских ребятишек.
А машина ползла и с горем пополам доскреблась до рыбацкой заимки, где избы и двухквартирные бараки прорастали вольно, яко грибы-боровики в сосновом бору, но разметавшись по рыбацкому умыслу так, что усадьбы не загораживали друг другу озеро. Неохватные листвяки и сосны красовались там, где и проклюнулись сквозь мхи, где уцепились кореньями за сырую землю меж скального камня-плитняка. Хвойные дерева и берёзы-вековухи заматерели под окнами и, уложив лапы на рыжие от хвои и палого листа, черепичные, тесовые крыши, оберегали избы и бараки от осенних ветров и крещенских метелей, скрипели, старчески похрипывали мартовскими ветродуйными ночами, и радостно, страстно к жизни дышали густой влагой, когда на исходе апреля являлись трясогузки-ледоломки и полевые куры — дрофы, когда заводила вешнюю песню голосистая овсянка.
Заимские мужики, в отличие от сельских и деревенских, сеяли картошку за околицей, на лесных еланях[32], ибо не имели земли под огороды — таёжный хребет теснил заимку к озеру; и не городили оград, отчего скарб лежал, торчал, висел наголе и наготове: топорщились воткнутые в небо оглобли саней, а рядом с баграми, вилами и долгими, тонкими пёхлами — невод запихивать под лед, рядом с лопатами, сачками и пешнями отдыхали под навесами бочки, кадушки, лагушки, на весь свой век пропахшие солёным окунёвым и чебачьим рассолом; тут же, на бичевках, натянутых меж листвяков, берез и сосен, полоскалось на ветру немудреное, выжелтившее рыбацкое бельё; на чушачьих загородках обвисали куски рваной неводной тони, и от всего наносило протухшей солёной рыбой с душком.