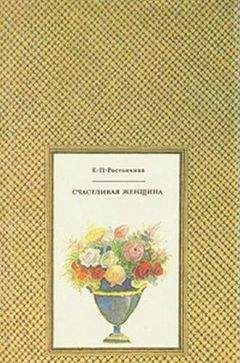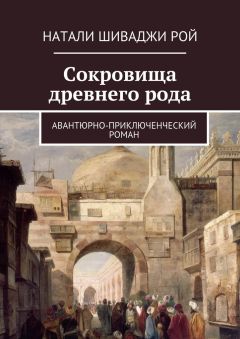Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Май 1983, июнь 2003.
ГОРЕЧЬ
Человек в чести сый не разуме, приложися скотом немысленным и уподобися им.
Псалом Давида, 48, 13I
День меркнет ночью, душа — грехом, древо — гнилью, железо — ржой… Ржавый автобус, запалившись, чихая и надсадно постанывая, вполз на вершину Дархитуйского хребта, замер, переводя запаленный дух, хрипло переключаясь на другую скорость. Подобно советской власти, лежащей на одре, доживающий короткий…хотя и железный… трудовой век, автобус прижался к земле, словно для прыжка, и-и-и, припадочно дребезжа на дорожной гребенке, старческой трусцой побежал с хребта в долину. И по морщинистым мутным стеклам наотмашь хлестнуло режущей глаза синью вольного озера, что обнажилось далеко внизу, где хребет разгибал сутулую спину и, у изножья обезлесевший, плавно сливался с неоглядным долом. При виде забайкальского озерища — одного из десятка по Яравнинскому[26] аймаку — в памяти взыграла здешняя песнь:
Мы — рыбаки Яравны,
Широк её простор,
Не зря зовут Яравну —
Край голубых озёр.
А ранее Игорь насмешливо оглядел вершину хребта, где на бурятском табисуне[27] пестрели увешанные ситцевыми и шелковыми лоскутами малорослые, колченогие берёзы, и вспомнил: здесь и буряты, всплескивая руками, и русские суеверы, попутно перекрестившись, вязали на сучья тряпичные лоскуты, а в до-сельные лета — и конский волос, а потом брызгали: плескали под березовые комли водку — потчевали степного идола-бурхана; и, отбурханив, набулькав и в свои чары, просили лёгкого пути у дорожного духа, вечно хмельного или похмельного. К сему и табакура — мужики бросали бурхану папиросы, сигареты; а коль охоч до выпивки и табака, то, может, и на бабёшек азартно косился из таёжного зеленого сумрака, из придорожных зарослей красногубого шиповника.
Озеро хлынуло в глаза, и душа сладостно защемилась, словно на качели, отлетевшей к небу и застывшей перед падением, словно Игорь с пылу и жару, со всего маху нырнул из перегретого до тошноты пыльного автобуса в стылое озеро, и вода запахнула за ним лето с немилосердным зноем. Автобус — ветхий мерин, узревший жильё — из последней моченьки трусил к чернеющему подле озера долгому селу. Вялые, сморённые путники ожили…позади триста пыльных, ухабистых вёрст забайкальскими степями, лесами… зашевелились, высматривая манатки, сваленные горой возле задней двери, выколачивая одежонку, отчего в автобусе повисла сладковатая пыль. В горлах запершило, народ закашлял, лишь два пьяных парня беспробудно дрыхли.
Сквозь лобовое стекло увиделись крайние деревенские избы.
— Во моя деревня, во мой дом родной!.. — смехом огласил балагуристый мужик Степан Уваров.
Игорь признал бывшего деревенского соседа на городском вокзале, но не отважился заговорить, лишь исподволь приглядывался. Степан мало вырос, весь в комель ушёл, а с летами осел, как садится, врастает в землю матёрый сруб, но в ширь раздался, — что поставь, что положь. Чернявый, вроде печная головёш-ка, со смолёвыми кудрями, что чудом выжили на затылке и над ушами, обрамляя прогонистую плешь, скуластый, губы вывернуты и приплюснуты, — Степан, напяль снежную сорочку, захлестнись тугой удавкой, мог сойти за африканца, что, миновав Байкал, дивом дивным забрёл в тайгу и степи, поблудил-поблудил да и осел на диком озёрном берегу. Смех смехом, а, видно, близко в русской родове Степана паслись тунгусы и буряты.
Мужик изредка, исподтишка косился на Игоря: городской по обличке и одёжке — тонкий, звонкий, с девьим румянцем на смуглых щеках и каштановой гривой до плеч, в облегающем чёрном свитере со стоячим воротом и серо-голубом джинсовом костюме, кои лишь из-под полы добывали форсистые ребята. Но и за городской обличкой виделся Степану деревенский малый Игорёха.
Замельтешили перед глазами спечённые на солнце и сморённые выхлопным угаром пыльные кусты; даже ягоды шиповника не могли проклюнуться сквозь пыльную наволочь и выказать приманчиво-спелую красноту. Ближе к низине побежал мимо автобуса ясный, прореженный березнячок и осинничек, а потом широко и вольно отпахнулась долина, голубоватыми волнами текущая от озера к изножью хребта.
Степан затормошил спящих в обнимку пьяных парней.
— Эй, робяты, кончай ночевать, приехали!
Сморенный паренёк поднял мятое лицо, слепо оглядел автобус и опять закрыл глаза, привалившись к мертвецки пьяному дружку.
— О красота, а! — Степан кивнул на парней. — Всё проспали. Теперичи, бляха-муха, будут гадать, приснился им город спьяну, или, в сам деле, в городе гостили. Будут хвастать — никто не поверит.
— Им, винопивцам, и жись-то вся, что сон похмельный, — проворчала пожилая тётка. — Лакают заразу почём зря. Совсем сдурели, спаси Господи, — тётка потаенно, мелконько перекрестилась.
— Но, едрёна вошь, однако, приехали, а? Отму-учились!.. — Степан хлёстко выбил кепку об колено и, прилепив обтёрханный блин на вольную плешь, ловко, разом с кивком головы подмигнул девчатам, сидящим напротив, — подморгнул глазом, вокруг которого зловеще растекся чернявый синяк. — Нюшка, Аришка! Приехали. Женихи-то, поди, заждались?.. Али городских подцепили?..
Девчушки — одна смуглая и долговязая, другая полноватая и рыжеватая — весело переглянулись и, покосившись на Игоря, вдруг разом засмеялись. Рыжая отмахнула чёлку, тяжело и непутно висящую над зеленоватыми, рысьими глазами, и насмешливо оглядела паренька от волнистой гривы до замшевых…или замшелых… полуботинок: ясно море, стиляга модная, сама голодная.
Абы скоротать время (…неближний свет от города до села), Игорь исподтишка присмотрелся к девчушкам: с лица невзрачные…да с лица воду не пить… но статью ладные зрелые, и, похоже, пэтэушницы[28], судя по сероватой, скучной одежонке казённого покроя. Хотел заплести с девчатами игривую беседу… насчёт картошки дров поджарить, но так и не придумал, о чём говорить с пэтэушными девахами, что лишь вчера рванули из деревни в город. Ладился уснуть, но на ухабистой, тряской дороге не то что вздремнуть, мёртвого можно разбудить.
II
В полсолнца пути от города по-московскому тракту долина реки Уды вольно отпахнулась лесостепью с крутолобыми, сухими увалами, со скалистыми вершинами, с одинокими и на усердном солнопёке кручеными-верчеными берёзами, с растущими вширь, коренастыми соснами, что кронами, словно зонтами, укрывали корявые стволы. Тихо и переливисто цвела миражная степь, синели потянутые дымкой далёкие таёжные хребты.
Игорь печально приник к окошку, когда поплыли мимо автобуса редкие и ветхие избы единоверческого, семейского[29] села Абакумово, что дышало на ладан, смиренно…по грехам… умирало, лёжа под святыми образами, покаянно глядя в небеса старческими окошками. В Абакумово остались материно детство и горькая юность, павшая на военное лихо; в Абакумово, в стемневшей, дородной избе по-божески, по-русски доживала долгий век бабка Христинья, у которой внук Игорюха гащивал летами, позже к бабке прикочевала и дочь Фрося, материна сестра.
Вглядываясь в автобусное окошко, Игорь увидел лишь заросший лебедой и крапивой бугорок, навроде могильного, там, где скорбно взирала на московский тракт бабушкина изба, где утрами и вечерами молились бабка Христинья с тёткой Ефросиньей, где ему, малому, так хотелось пульнуть из рогатки по древлим образам.
…Автобус, виляя пыльным хвостом, бежал по степным увалам, скатываясь в долину реки Уды, заныривая в желтые сосновые боры, в зеленовато-потаённые, тенистые березняки. Степан продолжал балагурить с девчатами, отбояваривая от городских женихов: ветродуи, мол, но девчушки, слушая в пол-уха, пялились в окошко, за которым уплывали приболоченные поля и сухие выпасы, где там и сям пестрели стада коров.
— Вы, девчата, городских не заводите, — гнул своё Степан. — Я на их нонечесь поглядел, — сумашедчии: бегут и бегут, сломя голову. Не здороваются, руки не подают. Да… Я по-первости здоровался, как у нас в деревне, а потом махнул рукой. Здоровайся не здоровайся, — даже ухом не ведут, бегут и бегут. Сумашедчии… В транвай битком набьются, что сельди в кадке, и там молчат. Наши-то деревенские запели бы. Чтоб не скушно ехать. Я, бывало, коня в телегу запрягу, доярок насажу, велю: «Пойте!.. Гнедко не повезет — без песни непривышный…» Я в транвае запел, дак на меня, как на дурака, выпучили зенки. Как ишо не упекли в кутузку?! С них бы стало… У нас в деревне все — вроде, родня, все — братья, сестры, хошь другой раз и зубатятся меж собой. А в городе не, в городе всяк сам по себе. А зленны, как цепные псы… Ладно, руки не подают… слова не скажи, как порох пыхают. Да… Не сладкая, видать, житуха в городе.