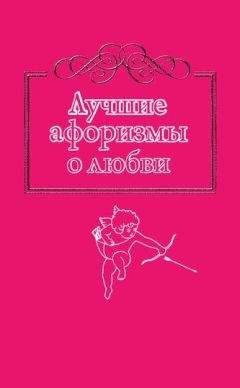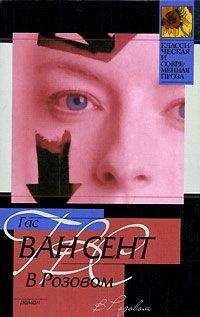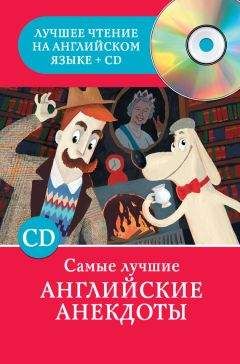Авигдор Даган - Петушиное пение
Я ему не сказал только, что если бы тогда пришли чуточку позже, ему бы пришлось искать себе другую жену. Ну, а коли все завершилось хорошо в тот раз, я и теперь должен прийти вовремя. И я приказывал старым ногам двигаться быстрее, идти в ногу с торопящимся Томой.
С Мартой дела были плохи. Обессиленная болью и часами тщетных потуг, она лежала потная, бледная, точно ее лицо натерли мелом, кричала, причитала, возводила глаза к потолку, минутами, вконец измученная, теряла сознание, пока боль вновь не заставляла ее метаться, не доводила до судорожного крика.
Я знал, что нужно делать. Выгнал всех из горницы и остался с ней наедине. Я был благодарен своей старости, которая накопила во мне немалый опыт, и потому ни минуты не колебался. Прежде всего необходимо было поддержать в ней силы, успокоить, а потом шаг за шагом вести ее по тяжкому пути.
- Скоро все будет хорошо, - утешал я ее, - только делай то, что я скажу. Думай, будто мы вместе должны перейти вброд быстрый поток. Дай мне найти один за другим камни, на которые можно, ничего не опасаясь, ступать, а потом - камень за камнем - следуй за мной. Хорошо? - Я отер с ее лба пот, и мне показалось, что она благодарно опустила усталые глаза.
И я ее вел. В каждый совет, в каждое приказание я вкладывал весь свой лекарский ум, все, что знал, и все, о чем только догадывался. Это был нелегкий путь. Перед нами был не только поток, который следовало перейти вброд, но и крутые подъемы, по которым было так тяжело ступать, и расщелины, сквозь которые приходилось продираться. Но все же мы дошли, и в минуту, когда то, о ком я знал, что оно вырастет и станет красивой женщиной, впервые заплакало на моих руках, мы оба, Марта и я, забыли про все подводные рифы, которые только что миновали.
Люди придумали, как измерять проценты содержания того или иного в крови, как мерить температуру тела и множество других происходящих в нашем организме вещей. Но никто не придумал, какой мерой измерять счастье. Все в этом доме были счастливы. Каждый по-своему, но счастливы были все. Для всех этот громкий плач был облегчением. Напряжение спало, мешок забот был сброшен с плеч, и теперь эти люди чувствовали нечто похожее на блаженный, святой покой. Тома, как все отцы первых детей, был еще немного опьянен, точно сам пережил хотя бы частицу родовых схваток, но теперь и он был горд и счастлив. А Марта? Нет ничего более знаменательного для молодой женщины, чем счастье первого материнства. Итак, все были счастливы. Но я был уверен, что если бы кто-нибудь изобрел градусник для измерения человеческого счастья, оказалось бы, что в этот момент счастливее всех был я.
"Девонька, - мысленно обращался я к тому, что еще не имело имени, но уже выращивало в себе все, что когда-нибудь расцветет в красивую женщину, девонька, ты не знаешь и никогда не будешь знать, сколько счастья ты мне принесла тем, что я помог тебе появиться на свет, как когда-то твоей прекрасной маме, ведь после того, как я помог прабабке, а после нее твоей бабке и маме, я имел возможность послужить еще и тебе. Что более прекрасное могло бы со мной случиться? Не плачь, девонька. Выпей немного сладкой воды. Только сегодня и завтра. Потом познаешь сладость молока, которое будешь сосать из полных грудей, развившихся на моих глазах, как бутоны розы. Ну-ну, не жалуйся. Увидишь, это не так плохо, как тебе может показаться. И не случится ли, как теперь со старым лекарем, про которого тебе, надеюсь, когда-нибудь расскажут, что он помог тебе появиться на свет, не случится ли, что однажды, когда и тебе придется уйти, ты будешь уходить без особой радости, ибо только тогда поймешь, сколько красоты покидаешь".
Правда, никто этого не слышал. Только уже уходя, я сказал:
- Так вoт, вверяю вам их обеих в полном порядке. Завтра приду на них взглянуть. Но чтобы не забыть, скажу вам лучше сразу: когда через каких-нибудь двадцать лет будет рожать эта малышка, не тяните до последней минуты с доктором.
В дверях я снова сказал самому себе: "Жаль, дружище, но при этом ты уже не будешь присутствовать. Только не забудь сказать докторчику все, что знаешь о том, как рожают женщины в этом доме".
LII
Мой верный Педро ждет меня на заборе перед домом. Ждал тут все время, пока я указывал дорогу из тьмы Мартиной дочке. Думаю, он ни на минуту не слетал с забора, даже не поддался искушению сбегать на насест к какой-нибудь из куриц. Ждет, и как только я, отказавшись от предложения Томы проводить меня, выхожу из дома, уже сидит на моем предплечье.
- Все в порядке, - говорю ему.
- Знаю, - отвечает он, - слышал детский плач, а остальное даже в такой темноте видно на твоем лице. - Потом спрашивает: - Устал? - И тут же сам отвечает: - Ясное дело, намаялся. Наверняка пришлось пройти порядочный кусок жесткой, каменистой дороги. Но готов побиться об заклад, спать тебе не слишком хочется. Я прав?
- В общем, как всегда, прав, - сознаюсь я.
Мне, и верно, не до сна, и я знаю, что если теперь лягу, все равно не усну, до утра буду переваливаться с боку на бок, и через мою голову пройдет процессией тысяча вещей.
- Вот видишь. У меня идея, - говорит он. - Очень скоро рассветет. Что если мы перейдем через мост и разок встретим день на вырубке, не самом верху леса, на другом берегу? Будем там ближе к солнцу. Как будто вышли ему навстречу.
- И даже не спросишь, донесут ли меня туда мои старые ноги? - Я колеблюсь при мысли о подъеме на гору, которая не сразу превратится в лес.
- Если поймешь, что идти дальше нет сил, - вернемся, - убеждает меня Педро, - сам увидишь: взбежишь словно юноша.
- Ну, если хочешь, можем попробовать, - поддался я наконец соблазну.
В конце концов, говорю себе, даже если то, чего я ожидаю, должно случиться сегодня, какая разница, буду ли я в этот момент на кровати, на скамье или в окружении мхов и папоротников на лесном склоне. На всякий случай я огляделся вокруг. Франа поблизости не было. Теперь я уже хорошо его знаю и думаю, он скорее всего стал бы подниматься вместе со мной, чем поразил бы меня своим появлением наверху. Но даже если он ждет меня там, я готов и к этому.
- Ладно, - решил я, - можем попробовать.
Я знаю, что ничем не мог бы доставить Педро большую радость, и сам себе говорю: чем лучшим я мог бы короновать этот замечательный день?
Итак, мы перешли мост и стали подниматься. Я не взбегу по склону, словно юноша, как мне обещал Педро. Этому я и на миг не поверил. Негнущиеся ноги, тяжелые, как бревна, неповоротливо ступают шаг за шагом, каждый раз нащупывают путь, прежде чем выберут, куда шагнуть и куда перенести тяжесть тела, я вынужден поминутно останавливаться, чтобы перевести дыхание, но с помощью палки из дерева сладкой вишни мы все же медленно приближаемся к вершине поросшего лесом склона. На вырубке, до которой наконец добираемся, я знаю каждый пень и даже впотьмах найду, на какой - правда, немного тяжело опуститься. Но Педро давно не терпится, он взлетает с моего предплечья и, прежде чем я успеваю добраться до своего пня, уже стоит в кроне самой высокой ели и оглядывает окрестности, точно моряк на мачте корабля.
Тут уже над кронами деревьев начинают светиться розовые паутинки утреннего тумана и вдалеке, будто разбитое войско, по орошенным комьям полей отступает тьма, меж тем как доспехи рассвета, близящегося от горизонта, сияют серебром и перламутром.
Я давно забыл об усталости, восхищенно смотрю на приближающиеся потоки света, которые движутся далекой дугой, словно несомые волнами неожиданного прилива. Они ширятся, языки пожара, и ты не знаешь, то ли на поверхности земли отражается огонь, пылающий в небесах, то ли облака отражают языки пламени с горящих полей. Лучи золотых фейерверков выстреливают надо всей округой, как в праздник, и украшают ленты ручьев и верхушки деревьев, и крыши внизу, в деревне. А на шелку Педровых перьев в кроне самой высокой ели лучи задержались и светятся всеми красками.
Я жду, когда запоет его труба. Но Педро стоит неподвижно, будто перстень восторга сжимает его горло, и лишь зачарованно смотрит туда, где начинает подниматься золотой шар солнца. А когда весь его круг с чеканным золотым ореолом возносится над горизонтом, вдруг на самой высокой ветке надо мной раздается его аллилуйя.
- Победа! - заливается его труба. - Победа! Глянь-ка, какое прекрасное утро, и день самый распрекрасный! - кричит он мне сверху. - Какая красота!
И глядя на него и дальше, в крону, сквозь кружево ветвей на высокое небо, я шепчу ему в ответ:
- Какая красота. Как хорошо, что мы видели это торжество, что мы тут.
- Кукареку! Кукареку! - выпятил грудь Педро и запел, точно включив все реестры органа.
Если бы я не стеснялся и не боялся, что обругаю себя старым безумцем, я приложил бы руку к губам и ответил бы ему его собственным языком: "Кукареку!" Но тут солнце, опередив меня, само, будто эхо, вернуло Педро, а возможно, и мне то, что сейчас звучит как фанфары:
- Кукареку! Кукареку!