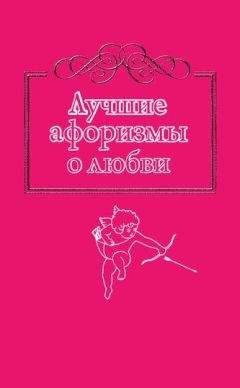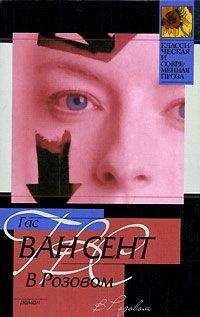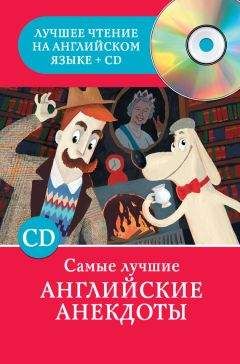Авигдор Даган - Петушиное пение
Чем дальше, тем меньше мои вопросы касаются меня самого. Спрашиваю о боли других, о смысле их страданий, так что иногда мне даже кажется, будто мы разговариваем как два врача на консилиуме у постели больного. Странно, что в эти минуты мы не переходим на латынь, чтобы больной не понял.
Сегодня, когда мы опять сидели на скамье перед домом, мне вдруг пришло в голову спросить, что станет с Педро, когда меня тут не будет. Тот сидел на спинке скамьи, смотрел на звезды, я знал, что он нас не слышит, и потому спрашивал без обиняков.
- И его время придет, - это все, что сказал Фран.
- Тогда явишься и за ним, как явился за мной?
- Разумеется.
- И явишься в его подобии?
- Да. И ему дам возможность привыкнуть.
Помолчав, я спросил:
- У него есть крылья. Что если он улетит на крышу?
- И у меня будут крылья, и я взлечу за ним.
- А что если он превратится в песню, если заставит звучать арфу лучей и скроется в сиянии солнца?
Есть вопросы, на которые Фран не отвечает. Даже плечами не пожмет. Но на сей раз он оставил меня в неуверенности: то ли молчал потому, что не хотел подвергать меня насмешкам за мою заботу о бессмертии Педро, то ли не приготовил ответа.
XLIX
Не со всеми вопросами я обращаюсь к своему новому брату (Фран хочет, чтобы я так его называл). Спрашиваю и мужчин, которые по вечерам, как прежде, приходят посидеть на моей скамье (случалось, кто-нибудь из них садился на место, где сидел Фран; в эту минуту мое сердце билось чуть ли не в горле, однако ничего не происходило, Фран просто исчезал и снова появлялся, когда гость покидал скамью), погоревать, посоветоваться, побеседовать, кое о чем спрашиваю и я их. Но чаще спрашиваю самого себя, а иной раз бываю способен и на ответ.
Говорю "иной раз", ибо знаю, что на все мои вопросы не мог бы ответить и Фран. Например, если я спрашиваю себя, хорошо ли, что я всю свою жизнь лечил больных. Не сделал бы я больше как поэт, как учитель, если бы строил города, если бы отправился воевать за справедливый мир? Я знаю, каждый мой вопрос сродни разбитому кувшину, разлитому молоку и вчерашнему снегу, но задаю его себе снова и снова.
Это еще вопросы попроще, хотя и на них у меня нет определенного ответа. Но есть и вопросы посложнее, и звучат они более странно. Был ли я пoслан в этот мир с какой-либо миссией? - спрашиваю себя. И с какой? Был ли я гонцом, забывшим наказ? Трубадуром, у которого улетучились из памяти слова песни? Или я был гонцом без послания? Или гонцом, назначение которого - придумать послание лишь на основе того, чему он научился в пути? И всегда я снова в тупике - как раз в прошлую ночь мне приснилось, будто я оказался в городе, все улицы которого были тупиками и никуда не вели, - и быстро возвращаюсь к более простым вопросам.
Знаю, например, что мужчины и женщины в моей деревне бессмертны. Ни к чему более мудрому я не пришел, лишь к сознанию, что они будут жить и дальше, поскольку их дети будут держать вожжи и хлыст, вести плуг в борозде, месить тесто, вешать белье, тесать балку, перекапывать грядку теми же движениями и точно так же, как их научили отцы, как они подглядели у матерей. А я уйду и не оставлю детей. И значит, после меня не будет ничего, только крест над могилой, да и о нем никто не станет заботиться. Или и после меня останется больше? - спрашиваю я себя. И тут вдруг начинают соревноваться Фран с Педро и с соседями, и каждый несет свою кроху на общую мельницу.
- А что было, когда Марко рубанул себя плотничьим топором по руке и она висела у него на волоске? Кто ему ту руку починил? - спрашивают они. - И сколько балок по всей деревне эта рука еще обтесала?
- А что если однажды ночью эти дома развалятся при пожаре? Это будет не первая выгоревшая деревня. Что тогда останется после плотника и что после лекаря, который спас ему руку? - Я не говорю этого вслух, только думаю про себя, но они уже тут как тут с новыми лечебными травами утешений.
- Думаете, кто-нибудь из нас забудет, как вы о нас заботились, как приходили к нам в жару и в слякоть, как вставали в морозные ночи, чтобы лечить наших деток и стариков? Как вы нас, немощных, ставили на ноги? Думаете, наши дети забудут?
Снова ничего не говорю, только бормочу себе в усы:
- Еще бы они не забыли! И как быстро забудут! Заслуги помнятся примерно год-два, а чаще - лишь горстку недель, а то и дней.
- И Терезина внучка? - замечает Педро. - Помнишь, какая Тереза была красивая, когда у нее начали наливаться почки грудей? А теперь уже и ее внучка дозревает и через месяц-другой родит ребеночка, которому ты поможешь появиться на свет, как когда-то помог ей самой. Думаешь, она когда-нибудь перестанет рассказывать о тебе своим детям?
Но даже Педро я не говорю о том, что в эту минуту думаю. Разумеется, я исчезну и из Мартиной памяти. Возможно, когда-нибудь, спустя годы, когда и она сама, уже старая, будет c каской серебряных волос сидеть перед порогом, сложив руки внизу живота, прозвучит Терезино: "На вашей свадьбе я еще танцевала", и тут на мгновение из тумана выплывет воспоминание о старом лекаре, с которым она водила старушку через порог в горницу. Возможно. Но наверняка не более того. И все же Педро прав. Хотя бы в одном. Мне бы, и верно, хотелось, чтобы именно я помог появиться на свет Мартиному первенцу. Знаю, конечно, что и это не прибавит ни камешка к кургану моего бессмертия уж и не пойму, нужен ли он мне, - но все же знаю, с какой радостью, уходя, я сказал бы себе, что сослужил службу четырем поколениям. При первой же возможности попытаюсь выяснить, будет ли мне это еще дано. Фран, как я и подозревал, смотрит мимо меня и делает вид, будто не слышит моего вопроса. Однако мне кажется, что я не ошибаюсь, когда в его молчании читаю нечто похожее на такое согласие.
Да и потом они не перестают протягивать тонущему соломинку. Этих соломинок набралось столько, что из них, пожалуй, можно сплести циновку, по которой тонущий мог бы сам перейти на другой берег. Они, однако, - и это заставляет меня смеяться, - вместо циновки складывают соломинку к соломинке, колосок к колоску, пока из них не получится красивый букет, за который я их благодарю, но знаю, что он завянет.
- Помнишь, - напоминает Педро, - как ты помог старому Якубу еще раз увидеть цветущие яблони во всей их красе? Ты тогда говорил, что это получилось само собой за все твои старания, и я думаю, ты был прав.
- Поведаю тебе тайну, - присоединился к нему Фран. - Не только Якубу. И Терезе, и многим другим в этой деревне ты добавил времени. Не будь тебя, я многих навестил бы раньше.
- Или когда ты помирил тех двух упрямцев, Паладу и Филиппа, - выбросил свой козырь Педро, собирающий мои заслуги по всем углам, и только договорил - подкатился отец Бальтазар и, стирая пот со лба, еще издали закричал:
- Новость несу, добрую новость! Бегу к вам, пока она тепленькая, потому что знаю: вас она порадует. Угадайте, у кого в воскресенье первое оглашение брака? У Филипповой Кристы и Паладова Петра. Что вы на это скажете, доктор? Могли бы вы такое предположить? А ведь этого никогда бы не случилось без вас.
- Ну, ну, - пытаюсь я его урезонить, - это уж никак не я. Тут уж, как вы говорите, неисповедимые пути Господни.
- Правда, правда, - подхватывает Бальтазар, точно не расслышав моего богохульства. - Разве не удивительно, что Господь выбрал именно вас, чтобы вы проложили пути для исполнения Его воли?
И снова мне шах. Ладно, думаю, пускай будет так. И даже когда, прощаясь со мной, он выражает надежду, что хотя бы в это воскресенье увидит меня в костеле, я обещаю прийти и не подчеркиваю, что приду не ради мессы, а ради молодой пары.
Когда потом я снова остаюсь один, я подвожу итог всему, что тут мне наговорили, и каждый раз прихожу к одному результату. Говорите, говорите, голубчики, приятно вас слушать, но из того, что вы говорите, памятник мне не поставите. Самое большее - совьете красивый венок, который в конце концов рассыплется в прах. Все лавры, все награды, все ваши добрые слова, которые вы приносите, как миро, я отдал бы за одного мальчишку в деревне, о котором бы знал, что он клюет носом, запускает воздушного змея и лепит снеговиков так, как это делал я и как я его научил.
Но ничего такого я опять же никому не говорю. Только думаю про себя. И наконец спрашиваю Педро:
- Скажи мне, я научил тебя чему-нибудь за те годы, что мы прожили вместе?
Педро, самое гордое на свете создание, очевидно, как я того и заслуживаю, отвечает мне вопросом:
- Лучше скажи ты мне. Хоть чему-нибудь ты научился у меня? Ты стоил мне не меньше трудов, чем я тебе.
Рассердиться? Рассмеяться? И под конец я, как всегда, должен признать, что он прав, и говорю ему:
- Надеюсь, самонадеянный тип, ты не ждешь, что я тебе отвечу. А то ты от гордости так раздуешься, что того и гляди лопнешь.
Тут Педро взлетает над землей и кричит мне со смехом:
- Вот видишь, доктор. В точности, ну в точности такой же ответ я приготовил для тебя.