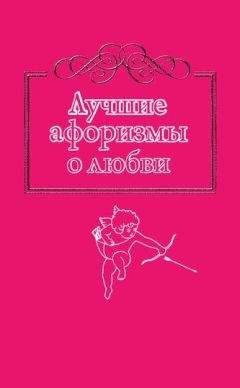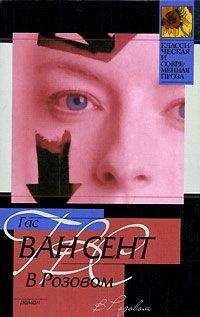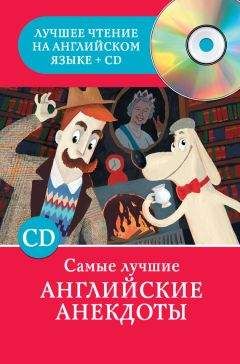Авигдор Даган - Петушиное пение

Обзор книги Авигдор Даган - Петушиное пение
Даган Авигдор
Петушиное пение
Авигдор Даган
Петушиное пение
Перевод с чешского В. Каменской
I
- Победа! Победа! - будит меня по утра Педро. Молнией разрезая ночь, словно зовущий в атаку сигнал трубы, звучит его пронзительный голос. Победа! Победа! - слышу я ликующую песню, еще не выбравшись из паутины последних предутренних снов. Окончательно проснувшись, тотчас же вижу его темную тень на порозовевших облаках за моим окном. Он стоит на заборе, широко расставив ноги, как боец на баррикаде, и победоносно машет флагом своего хвоста.
Серебряный перламутр рассвета приближается по росистым комьям земли на полях и гладит старые крыши низких домиков. А тем временем ночь дает команду к организованному отступлению, и по всему фронту рои света гонят ее перед собой. Когда я встаю и подхожу к окну, чтобы набрать в легкие пахнущего землей свежего утреннего воздуха, Педро, теперь уже в полном великолепии своих сочных красок, расправляет грудь, будто именно он держит над горизонтом всю тяжесть золотого солнечного шара. А солнце, словно платя ему за эти усилия, оставляет кусочки золота на шелке его черных, синих, красных и коричневых перьев.
- Победа! - снова кричит Педро. - Победа!
И, увидев меня в окне, перелетает с забора на подоконник.
- Зачем столько шуму? - спрашиваю я, кроша на карниз хлеб и насыпая зерно. Он жадно клюет, точно после тяжелой работы (в горле его и сейчас не совсем умолкла песнь), и между глотками отвечает:
- Прекрасное утро. Прекрасный день.
- День как день. Как любой другой, - отвечаю ему, а сам тем временем наливаю стакан холодного молока и откусываю от ломтя хлеба, намазанного маслом.
- Нет, нет, - стоит на своем Педро, - сегодня он прекрасней, чем вчера. А завтра будет прекрасней, чем сегодня.
- Ты повторяешь это каждый день, тебе все равно, светит ли солнце, стучит ли град, расцветает мир или лежит под снегом. Убирайся отсюда со своим вечным "Победа!". Убирайся со своим "Сегодня прекрасней, чем вчера".
- И все-таки прав я, а не ты с твоим "День как день", - платит мне той же монетой Педро. - Сегодня он прекрасней, чем вчера, потому что сегодня есть, а вчера - уже нет, - и опять победоносно горланит, точно насмехаясь надо мной.
На языке у меня много ответов. Я мог бы рассказать ему о куда более прекрасном "вчера", которое останется запечатленным в моей памяти. Мог бы его предостеречь, мол, не следует хвалить день прежде вечера. Это знали еще наши деды. Но у меня с ним и так бездна хлопот, и я понимаю, что его петушиному уму чужды эти рассуждения, какими бы безоговорочно убедительными они мне ни казались. И потому, поднявшись из-за стола, я только замечаю:
- А что если я завтра не встану и меня вынесут, положат в могилу и прикроют дерном? Что если ночью ласка прыгнет тебе на горло и утром я найду тебя не на заборе, а в саду, обглоданного мышами, объеденного муравьями? Тогда тоже будет прекрасней, чем вчера?
Ответа я не жду, но пусть все же знает, что он не победил. Однако Педро, не задумываясь, точно давно был готов к моему вопросу, вновь перелетает с карниза на забор и оттуда кричит:
- И тогда, доктор, будет прекрасный день. Без нас, но все равно прекрасный. - И пoeт громче прежнего, и все петухи деревни присоединяются к нему в торжественном хорале.
II
Так мы с ним разговариваем. Педро и я. Уже давно. И все из-за Анны. Кто-то принес его из деревни, когда я был болен - между небом и землей, как у нас тогда говорили (мне и самому кажется, будто я между небом и землей, даже когда здоров, а с той поры, как со мной Педро, я сознаю это отчетливее, чем когда-либо раньше). Мол, куриный бульон поставит меня на ноги. Съем две тарелки и буду здоров. Буду крушить скалы. Вскочу с постели, точно молодой олень, и смогу носить весь мир, словно розу в лацкане пиджака.
Но Анна сказала:
- Глянь-ка, какой он красивый. Во всей деревне не найти такого красавца. Дон Педро, да, я буду звать его дон Педро. - Она радостно захлопала в ладоши и с петухом на руках пустилась по горнице в пляс.
Оказывается, если вы дадите петуху имя, можете проститься с мыслью, что когда-нибудь он кончит свою жизнь как воскресное лакомство на вашем столе. Выяснилось и многое другое. Не только, что Педро понимает меня (в этом я не видел ничего странного, и собаки, и лошади меня понимали, почему бы не быть и петуху таким же умным?), но... - и это удивило меня куда больше - я тоже понимал его. Прошло немного времени, и я увидел: Педро не только умнее лошадей, и собак, и кошек, но и многих людей, которых я знал. А позже, когда не одна весна сменила зиму, оказалось, что и мера жизни, отпущенная ему, далеко превышает количество лет, отмеренных многим иным тварям.
Так это началось. Через день после того, как Педро принесли к нам, утром меня разбудило петушиное пение. На розовых облаках за окном вырисовывался его темный силуэт.
- Победа! - кричал он во всю глотку. - Победа! - А когда увидел меня, принялся петь: - Поднимайся, доктор, вставай - прекрасный день.
Только многим позднее я удивился, почему понимаю его. Без долгих раздумий я встал с постели и подбежал к окну. Жадно глотая воздух, пахнущий росой, грудами земли и травой, я громко ответил:
- Доброе утро, Педро. Ты прав, дружище. Ты прав. Прекрасный день.
А Педро перелетал с забора на окно, с карниза на забор и пел, а я ему аплодировал и подпевал, за этим занятием тогда и застала нас Анна.
Не знаю, долго ли она молча стояла на пороге. Потом залилась колокольчиками смеха, подбежала ко мне и опять пустилась в пляс по горнице. Только на этот раз прижимала к груди не Педро, а меня.
III
Теперь мы уже старики, Педро и я. Прежде мы выезжали на коне. Я вскакивал в седло, Педро взлетал мне на плечо, и мы рысили от деревни к деревне. И глядели на мир с высоты, Педро победно махал крыльями, мы соревновались в пении и въезжали не деревенскую площадь как завоеватели. Прыжком брали рвы, сокращали путь через лес, стаи гусей и стада овец сломя голову улепетывали от нас.
Теперь мы уже старики, я и Педро. Больше не объезжаем всю округу. Я давно продал коня и седло и хожу по домам только в нашей деревне, туда, куда доносят меня ноги. Выходим всегда утром, я с торбой через плечо, полной бинтов и лекарств, a в пpaвoй руке палка - вся в сучьях, из дерева сладкой вишни, и ее тепло в моей ладони - тепло живого тела, на предплечье другой руки стоит Педро и озирается по сторонам, точно страж старого замка.
Прежде над нами смеялись. "Сокольничий", - подталкивали друг дружку крестьянки у колодца. "Огородное пугало", - хватались за бока и прятали лица за частоколом смуглых пальцев. Мужчины со значением переглядывались и пожимали нам вслед плечами. "Чудак", - говорили или хотя бы думали они. Но посылали за мной, когда их жены собирались рожать, когда дети лежали в горячке, когда во время жатвы кто-нибудь из них наступал на косу, а на другого опрокидывался плохо увязанный воз, когда зимой нашли пьяного, полузамерзшего в заснеженной канаве, когда в трактире на храмовый праздник порезали друг друга ножами. Посылали за мной и знали, что где только можно доктор окажет помощь. Платили яйцами, яблоками и маслом и постепенно привыкли... Привыкли так, что если в какое-нибудь утро доктор, чудаковатый сокольничий, со своим петухом, которого он звал Педро, не показывался с торбой через плечо на деревенской площади, приходили узнать, не случилось ли чего.
И так, стало быть, выходим мы каждое утро, и никто уже не видит ничего странного в том, что Педро сидит на моей руке, как не удивляются и тому, что в другой руке у меня суковатая палка из сладкой вишни.
Первым делом мы идем к старой Терезе. Она сидит на низком табурете, который ей вынесли за порог, руки сложены внизу живота, смотрит на восходящее солнце, заливающее ярким светом серебряную каску ее волос, и не видит, как мы подходим. Издалека здороваюсь, Педро шумно объявляет о нашем приходе, а она точно обросла густым кустарником, точно снимает покрывало за покрывалом, точно продирается сквозь туман. Наконец раздвинет кружевную вуаль смутного предчувствия и в момент, когда начнет меня узнавать, несколько раз медленно кивнет, мол, понимает, кто я. А я уже знаю, что будет дальше, и терпеливо жду, когда она и словами подтвердит, что узнала меня.
Медленно, тихо, как слетают осенью последние листья с голых ветвей, слетает с ее бесцветных губ слово за словом:
- На вашей свадьбе я еще танцевала.
Потом мы уводим ее в горницу, с одной стороны я, с другой - Терезина внучка Марта. Ей пятнадцать лет, и она красивая. Длинные волосы цвета зреющих колосьев пшеницы свободно падают ниже ее плеч, которые вот-вот
округлятся, приняв мягкую форму, как у молодых женщин; она гордо несет перед собой чаши расцветающих грудей, а блестящие икры ее босых ног еле сдерживаются, чтобы не пуститься в пляс.
И Тереза прежде была хороша собой. Она старше меня лет на десять-пятнадцать, но я еще помню ее красоту. Мужчины пожирали ее глазами, оглядывались ей вслед и стояли, оцепенев, наблюдая, как колышутся ее бедра. Теперь я едва различаю биение ее сердца под высохшей грудью, на которую когда-то, когда она еще была в coку, как готовый распуститься бутон, и я нередко косил глазом. Если я, бывает, и горблюсь под гнетом печали, - это когда вижу рядом Терезу и ее цветущую внучку.