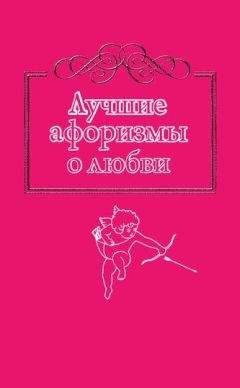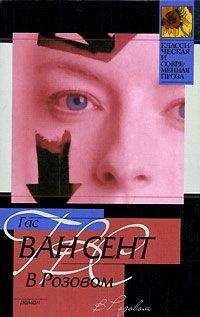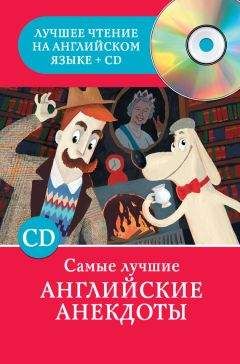Авигдор Даган - Петушиное пение
Прослушаю старуху, дам ей лекарство. Я давно знаю наизусть каждый шелест в ее груди, знаю, что мои лекарства тут уже не помогают, но еще какое-то время, может - год, может - только полгода, Терезины бесцветные губы с каждой ложечкой будут всасывать каплю надежды.
Потом мы снова ведем ее за порог, и прежде чем тяжело опуститься на низкий табурет, она опять скажет:
- На вашей свадьбе я еще танцевала.
Потом солнце вновь зальет ярким светом серебряную каску ее волос, Тереза сложит руки с кружевом синих жил на угасшем лоне и будет смотреть прямо перед собой в веретено пустоты, которое обмотает ее своей пряжей прежде, чем я успею продолжить путь.
Педро знает, какие тяжелые тучи переваливаются по небу моего сердца в минуты, когда я покидаю Терезин дом, и пытается меня развеселить своими выходками. Перелетает с моей руки на ограду, садится мне на голову и обмахивается крыльями, словно веером, кукарекает мне прямо в ухо, и не успеваю я опомниться - как он уже снова на заборе и насмехается надо мной с безопасного расстояния.
- Клоун, - сержусь я, - глупый клоун!
- Доктор, - передразнивает он, - умный доктор!
Вижу, ничего с ним не поделаешь, и пытаюсь найти в нем слабинку.
- Бесстыдник, - ругаю его, - забияка! - Знаю, пока я лечил Терезу, он, как всегда, разбежавшись, помчался за ее петухом, растрепал ему гребешок, до крови расклевал голову, прогнал его, вопящего, с мусорной кучи за забор и, избавившись от соперника, помчался за самой крупной на дворе курицей. Правда, судя по кудахтанью, донесшемуся до Терезиной горницы, она не слишком сопротивлялась. Но все равно я обзываю его насильником, подлецом и сластолюбцем.
- Пора хоть немного поумнеть, - защищается Педро. - Зачем столько шуму из-за капли любви?
- Что ты знаешь о любви, негодяй?
- Нет ничего прекрасней.
- И это ты называешь любовью? - испепеляю его пламенем гнева.
- Для меня это любовь, - отвечает он невинно и продолжает стоять на своем. - Нет ничего прекрасней.
- Тебе не стыдно? - взываю к его петушиной совести. - Тебе не жаль беднягу, которого ты прогнал с мусорной кучи?
- И между нами, петухами, есть рогоносцы, - говорит он, словно бы пожимая плечами.
Я не могу удержаться:
- Их будет меньше, когда я превращу тебя в каплуна.
Педро долго молчит. Не отвечает на мою угрозу. Видно, я зашел слишком далеко. Он гордый, нет петуха, который превзошел бы его гордостью, я уже начинаю раскаиваться в резкости своих слов. Теперь я понимаю, что все это только ливень из черной тучи в моем сердце. Теперь, когда туча пролилась дождем, я подыскиваю слова, как это ему объяснить. Пока он сам не помогает мне смущенно.
- Тогда я, - говорит он серьезно, - не смогу по утрам петь под твоим окном и хвалить прекрасный день.
И я, старый дурень, попадаюсь на крючок, ухватившись за его слова, как утопающий за соломинку, быстро кончаю спор:
- Ну, ладно, ладно, - бормочу, как будто провинился я, а не Педро.
Теперь мне легче, как бывает с друзьями, которые после ссоры подают друг другу руку. Но как только Педро понимает, что буря миновала, он взлетает с моего предплечья, где до сих пор восседал, на ближайший забор и с безопасного расстояния кричит:
- Положа руку на сердце, доктор, ведь ты немного мне завидуешь?
Я замахиваюсь палкой, но его не достанешь, он убегает от меня по зубьям забора. А я бегу за ним. Однако мы оба знаем, что теперь я всeго лишь изображаю гнев.
IV
Педро и впрямь смешит меня всякий раз, когда мы идем мимо школы. Не знаю, кто тому виной, Педро или Гана, которая, завидев нас издалека, с широкой улыбкой приветливо машет нам рукой. Гана учит детей в школе третий год. До нее тут были другие: Юлия, Барбора, Мария, Дора - всех уже и не припомню, знаю только, что все они напоминали мне мою Анну, но Гана особенно. Когда она хлопает в ладоши, чтобы успокоить детей, или чему-нибудь радуется, мне на миг кажется, что передо мной Анна.
На перемене дети бегают по двору перед школой, издали их смех и крики звучат как воробьиный концерт в кроне дерева. Заметив нас, они подбегают к забору, выстраиваются в ряд, и когда мы подходим, кричат один за другим:
- Кукареку! Кукареку!
И Педро отвечает каждому в отдельности:
- Кукареку!
Я знаю их всех. Знаю, кто и когда болел корью, кто свинкой, кто вывихнул лодыжку, кто перенес воспаление желез, кто и когда упал с дерева, кто тонул в пруду. Все теперь забыли, что у них тогда болело. Каждый ждет своей очереди: когда он наклонит голову и закукарекает что есть мочи, стараясь перещеголять других, и Педро отвечает каждому:
- Кукареку! Кукареку!
Гана хлопает в ладоши, если кому-нибудь из детей удается перекукарекать остальных, потом улыбнется мнe через забор и скажет полушепотом:
- Кукареку!
А я, хотя был бы и рад перекричать всех, даже самого Педро, отвечаю ей так же тихо:
- Кукареку!
Потом дребезжит звонок. Дети затихают и ждут. Они уже знают, что сейчас будет. Педро надуется, выпятит грудь и во весь голос затрубит:
- Кукареку!
Как по команде, раздается общее:
- Ура! Ура! - и все бросаются на штурм класса. Теперь мы с Ганой смеемся громко, и я еще долго стою у забора, хотя она уже ушла вслед за детьми. Через открытое окно ко мне доносится молодой голос, рассказывающий о том, как вступали один за другим на трон чешские короли, и о притоках рек. Я все еще смеюсь, когда мы отправляемся дальше, и если кто-нибудь встретится на пути, он наверняка удивится, как весело я издалека машу ему палкой из дерева сладкой вишни.
V
За широкой полосой полей, разделенных на маленькие прямоугольнички, течет река. Она огибает нашу деревню и еще много других, а потом у ближайшего города вливается в более могучий поток. Перехожу по мостку, на другом берегу меня приветствуют несколько старых ив, а над ними, в начале подъема на холм - березовая роща, постепенно переходящая в лес. Оттуда, с холма, поля и речка кажутся фартуком в заплатах, с лентами-завязками, вьющимися по обе его стороны.
Речка неширокая. Если хотите, можете назвать ее ручьем. Говорят, однажды кто-то, перепрыгнув через нее, выиграл пари. Зато русло речки глубокое, полное рыб. Карпов, лещей, плотвы, карасей. Порой и щука выглянет из воды, и ленивый сом поднимется с илистого дна.
Я отнюдь не заядлый рыболов. Мои охотничьи страсти давно повесили ружье на крючок, а рыбной ловлей я и вовсе не увлекался. Но изредка, когда день золотисто-голубой и прогретая солнцем вода в речке светится, как пчелиный мед, я беру удочку и устраиваюсь в прибрежной траве, насаживаю червя и забрасываю пробковый поплавок в густyю струю.
Педро прогуливается по берегу в поисках дождевых червей и оставляет меня в покое. Не зовет, не покрикивает, не мешает, будто ему понятно, что я хочу побыть один, наедине с кругами, возникающими на поверхности воды каждый раз, когда под ней проплывает тень рыбы или когда на нее упадет лист с дерева или перышко с крыла птицы, летящей сквозь голубые облака, - круги на воде медленно разрастаются и вновь тихо исчезают.
Бывает, меня одолевает дремота. Я сижу на берегу, смотpю на воду и думаю о Терезе. До сих пор слышу, как она говорит: "На вашей свадьбе я еще танцевала". Но глаза мои слипаются, круги на воде превращаются в широкий взмах юбки танцующей Терезы.
Кружусь с ней в кольце танцующих, она молодеет в моих руках, и вот уже я танцую не с ней, а с Анной, со своей Анной, и весь мир - наш, уже целый час - наш. Всего час назад мы пришли из костела, где нас обвенчал деревенский священник отец Бальтазар, и теперь мир навсегда будет нашим. Мы танцуем, а все стоят вокруг и аплодируют, когда я целую ее на виду у всей деревни.
Анна. Как дерево, глубоко посаженное в теплую почву, я был в ней. Как земля, соки которой подымаются в ствол и ветки, была она во мне. Вместе мы могли переносить в ладонях горы, могли крушить скалы, если бы они оказались между молотами наших сердец, стучащих с обеих сторон, чтобы встретиться в общем биении. Ночью мы спускались в самые глубокие колодцы и пили из прозрачных источников живую воду. У нас вырастали крылья, мы возносились высоко над деревней и, захлебываясь, возвращались в гнездо своего дома. А когда по утрам нас будила песня Педро, славящая прекрасный день, весь мир каждый раз танцевал вокруг. Весь мир танцевал, и мы танцевали вместе с ним.
И опять мы с ней кружимся. Все стоят вокруг и хлопают в ладоши. Анна положила голову на мое плечо, а я кружусь и кружусь с закрытыми глазами, точно опьянев от счастья, и только в момент, когда открываю глаза, замечаю, что кружусь один. Еще не понимаю, еще не верю, пока не увижу белую руку Анны, машущую мне на прощанье. Бегу к дверям, но они заперты, и ни у кого нет ключа. А потом аплодисменты сменяются сухим звуком комьев земли, падающих на крышку гроба.
Мир снова вращается дикими кругами, но среди этих кругов я остался один с пустотой в руках.
Прихожу в себя - я снова сижу на берегу, остались только круги на воде. А рыбы тем временем объели приманку. Сматываю леску, собираюсь домой без улова.