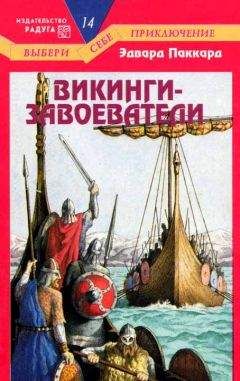Эрих Ремарк - Возвращение
- Новости есть? - спрашивает он.
- Нет, никаких, - отвечаю я.
- А что на фронте? Наши, наконец, заняли Верден?
Мы переглядываемся.
- Давно заключен мир, - успокаивающе говорит Альберт.
Больной смеется неприятным, блеющим смехом:
- Смотрите, не дайте себя околпачить. Это они тумана напускают, а сами только и ждут, чтобы мы вышли отсюда. А как выйдем, они - хлоп! - и на фронт вас пошлют. - И таинственно прибавляет: - Меня-то им больше не видать!
Гизекке здоровается с нами за руку. Мы поражены его поведением: мы ждали, что он, как обезьяна, будет прыгать, беситься, гримасничать или, по меньшей мере, трястись, как контуженные, что просят милостыню на углах, но он только жалко улыбается, как-то странно кривя губы, и говорит:
- Что, небось, не думали, а?
- Да ты совсем здоров, - отвечаю я. - У тебя разве что-нибудь болит?
Он проводит рукой по лбу:
- Голова. Затылок будто обручем сжимает. А потом - Флери...
Во время боев под Флери Гизекке разрывом снаряда засыпало, и, придавленный балкой, он долго пролежал, прижатый лицом к вспоротому до самого бедра животу другого солдата. У того голова не была засыпана; он все время кричал, и с каждым его стоном волна крови заливала лицо Гизекке. Постепенно у раненого стали выпирать наружу внутренности, и это грозило Гизекке удушьем. Чтобы не задохнуться, он то и дело втискивал их обратно в живот раненого. И всякий раз слышал при этом глухой рев несчастного.
Все это Гизекке рассказывает вполне гладко и последовательно.
- Так вот каждую ночь, - говорит он. - Я задыхаюсь, и комната наполняется скользкими белыми змеями и кровью.
- Но раз ты знаешь, что все тебе только кажется, неужели ты не можешь побороть себя? - спрашивает Альберт.
Гизекке мотает головой:
- Ничего не помогает. Даже если я не сплю. Как только стемнеет, они тут как тут. - Он весь дрожит. - Дома я выпрыгнул из окна и сломал ногу. Тогда они привезли меня сюда.
Он молчит. Потом обращается к нам:
- Что же вы теперь делаете? Выпускной экзамен уже сдали?
- Скоро будем сдавать, - говорит Людвиг.
- У меня, наверное, уж ничего не выйдет, - печально произносит Гизекке. - Такого к детям не пустят.
Больной, кричавший: "Прикрытие!", тихонько подкрался сзади к Альберту и хлопнул его по затылку. Альберт вспыхнул, но тут же опомнился.
- Годен, - хихикает больной, - годен! - Он смеется с какими-то взвизгами, но вдруг умолкает и тихо отходит в угол.
- Слушайте, не можете ли вы написать майору? - говорит Гизекке.
- Какому майору? - удивленно переспрашиваю я.
Людвиг подталкивает меня.
- О чем же ему написать? - быстро говорю я, спохватившись.
- Чтобы он разрешил мне отправиться во Флери, - возбужденно отвечает Гизекке. - Мне это непременно помогло бы. Сейчас там должно быть тихо, а я помню это место, когда там все грохотало и взлетало на воздух. Я пошел бы пешком через Ущелье Смерти, мимо Холодной Земли, прямо к Флери; если бы я не услышал ни одного выстрела, у меня бы все прошло. И я наверное успокоился бы, вы как думаете?
- И так все уляжется, - уговаривает его Людвиг и кладет ему руку на плечо. - Тебе только надо ясно отдать себе во всем отчет.
Гизекке грустно смотрит перед собой:
- Так напишите же майору. Меня зовут Герхардт Гизекке. Через два "к". Глаза его помутнели и словно ослепли. - Принесите мне немного яблочного мусса. Я бы с таким удовольствием поел сейчас мусса.
Мы обещаем ему все, что он просит, но он уже нас не слышит, он уже ко всему безучастен. Мы прощаемся. Он встает и отдает Людвигу честь. Потом с отсутствующим взором садится за стол.
Выходя, я еще раз оглядываюсь на Гизекке. Вдруг он, точно проснувшись, вскакивает и бежит за нами.
- Возьмите меня с собой, - просит он каким-то высоким, странным голосом, - они опять ползут сюда...
Он испуганно жмется к нам. Мы не знаем, что делать. В эту минуту появляется врач, оглядывает нас и осторожно берет Гизекке за плечи.
- Пойдемте в сад, - говорит он, и Гизекке послушно дает себя увести.
Мы выходим из больницы. Вечернее солнце низко стоит над полями. Из решетчатого окна все еще доносится пение: "Но тех замков нет уж больше. Тучи по небу плывут..."
Мы молча шагаем. Поблескивают борозды на пашнях. Узкий и бледный серп луны повис между ветвями деревьев.
- По-моему, - говорит Людвиг, - у каждого из нас кое-что в этом роде...
Я гляжу на него. Лицо его освещено закатом. Оно серьезно и задумчиво. Я хочу ответить Людвигу и вдруг начинаю дрожать, сам не зная отчего.
- Не нужно об этом говорить, - прерывает его Альберт.
Мы продолжаем наш путь. Закат бледнеет, надвигаются сумерки. Ярче светит месяц. Ночной ветер поднимается с полей, и в окнах домов вспыхивают первые огни. Мы подходим к городу.
Георг Рахе за всю дорогу не сказал ни слова. Только когда мы остановились и стали прощаться, он словно очнулся:
- Вы слышали, чего он хочет? Во Флери - назад во флери...
Домой мне еще не хочется. И Альберту тоже. Мы медленно бредем по обрыву. Внизу шумит река. У мельницы мы останавливаемся и перегибаемся через перила моста.
- Как странно, Эрнст, что у нас теперь никогда не появляйся желание побыть одному, правда? - говорит Альберт.
- Да, - соглашаюсь я. - Не знаешь толком, куда девать себя.
Он кивает:
- Вот именно. Но ведь, в конце концов, надо себя куда-нибудь деть.
- Если бы в руках у нас была уже какая-нибудь специальность! - говорю я.
Он пренебрежительно отмахивается:
- И это ничего не даст. Живой человек нужен, Эрнст. - И, отвернувшись, тихо прибавляет: - Близкий человек, понимаешь?
- Ах, человек! - возражаю я. - Это самая ненадежная штука в мире. Мы немало насмотрелись, как легко его отправить к праотцам. Придется тебе обзавестись десятком-другим друзей, чтобы хоть кто-нибудь уцелел, когда пули начнут их косить.
Альберт внимательно смотрит да силуэт собора:
- Я не то хочу сказать... Я говорю о человеке, который целиком принадлежит тебе. Иногда мне кажется, что это должна быть женщина...
- О господи! - восклицаю я, вспоминая Бетке.
- Дурень! - сердится он вдруг. - В жизни совершенно необходимо иметь какую-то опору, неужели ты этого не понимаешь? Я хочу быть любимым, и тогда я буду опорой для того человека, а он для меня. А то хоть в петлю лезь! - Он вздрагивает и отворачивается.
- Но послушай, Альберт, - тихо говорю я, - а мы-то для тебя что-нибудь значим?
- Да, да, но это совсем другое... - И, помолчав, шепчет: - Надо иметь детей, детей, которые ни о чем не знают...
Мне не совсем ясно, что он хочет сказать. Но я не расспрашиваю больше.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Мы представляли себе все иначе. Мы думали: мощным аккордом начнется сильное, яркое существование, полновесная радость вновь обретенной жизни. Таким рисовалось нам начало. Но дни и недели скользят как-то мимо, они проходят в каких-то безразличных, поверхностных делах, и на поверку оказывается, что ничего не сделано. Война приучила нас действовать почти не размышляя, ибо каждая минута промедления чревата была смертью. Поэтому жизнь здесь кажется нам очень уж медлительной. Мы берем ее наскоком, но прежде, чем она откликнется и зазвучит, мы отворачиваемся от нее. Слишком долго была нашим неизменным спутником смерть; она была лихим игроком, и ежесекундно на карту ставилась высшая ставка. Это выработало в нас какую-то напряженность, лихорадочность, научило жить лишь настоящим мгновением, и теперь мы чувствуем себя опустошенными, потому что здесь это все не нужно. А пустота родит тревогу: мы чувствуем, что нас не понимают и что даже любовь не может нам помочь. Между солдатами и несолдатами разверзлась непроходимая пропасть. Помочь себе можем лишь мы сами.
В наши беспокойные дни нередко врывается странный рокот, точно отдаленный гром орудий, точно глухой призыв откуда-то из-за горизонта, призыв, который мы не умеем разгадать, которого мы не хотим слышать, от которого мы отворачиваемся, словно боясь упустить что-то, словно что-то убегает от нас. Слишком часто что-то убегало от нас, и для многих это была сама жизнь...
1
В берлоге Карла Брегера все вверх дном. Книжные полки опустошены. Книги, целыми пачками, валяются кругом - на столах и на полу.
Когда-то Карл был форменным библиоманом. Он собирал книги так, как мы собирали бабочек или почтовые марки. Особенно любил он Эйхендорфа. У Карла три различных издания его сочинений. Многие из стихотворений Эйхендорфа он знает наизусть. А сейчас он собирается распродать всю свою библиотеку и на вырученный капитал открыть торговлю водкой. Он утверждает, что на таком деле можно теперь хорошо заработать. До сих пор Карл был только агентом у Леддерхозе, а сейчас хочет обзавестись самостоятельным предприятием.
Перелистываю первый том одного из изданий Эйхендорфа в мягком переплете синего цвета. Вечерняя заря, леса и грезы... Летние ночи, томление, тоска по родине... Какое это было время!..
Вилли держит в руках второй том. Он задумчиво рассматривает его.