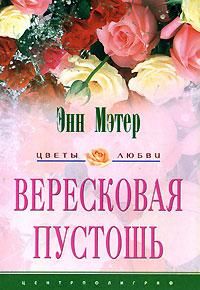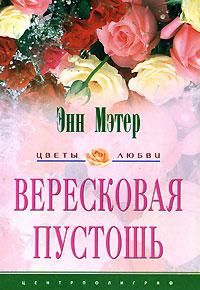Н Ляшко - Минучая смерть
Под запиской стояло слово «Сестры», а рядом был нарисован чулок. Федя понял: писали чулочницы, а опознала их и «дядю» Саша.
Он в кашицу измельчил записочку и одеревенел. Мерещилось, как его поведут на суд, с каким презрением товарищи будут глядеть на него и ежиться рядом с ним. И разве можно не презирать его? Кто Саша? Девчонка, а он взвалил на нее такую тяжесть. Дурак! Осел! Не мог перенести корзины так, чтоб об этом никто не знал. И ведь имел возможность: под его рукою было четыре помощника. Надо было провести их во двор, поставить в стороне, а самому постучать. Саша открывает ему, он шепчется с нею, четверо подкрадываются, хватают его, Сашу, старуху, связывают их, запирают в чулан и уносят из типографии корзины. У него руки связаны чуть-чуть, он высвобождает их, советует Саше и старухе не оставлять дома, гонится за «грабителями», находит их в условном месте и…
— Ну, продолжаем. Ход ваш…
Федя поднял на Казакова глаза и, чтобы не выдать тревоги, сел к шахматам. После второго хода ему вспомнилось утро, когда он согласился быть помощником Фомы. В ушах прозвучали слова Смолина: «Смотри, не обмани доверия».
Как же, не обманул! Стучал по котлам, носился по слободке, верил, что никогда не споткнется, не упадет, а теперь скулит собачонкой, облитой расплавленной смолою.
Ной, вой, визжи, — смолы не стереть - до мяса въелась.
— Ваш ход. Да вы слышите?
— Слышу, сейчас…
Улыбка Казакова показалась Феде гаденькой: «Знаю, знаю, — говорила она, — что с тобою». Вспомнились кивок и шопот усатого, по челюстям прошел зуд, будто их только что надзиратели разнимали противными ключами. Федя поморщился и встал:
— Виски ломит что-то…
Казаков оглядел его и вновь, казалось, ехидно усмехнулся: знаю-де, отчего у тебя виски ломит, знаю. Федя старался не глядеть на него, ходил по камере, ложился, а после вечерней поверки решил защищать себя и доказывать, что он не предатель, что за ошибки нельзя презирать и ненавидеть.
Он лежал с закрытыми глазами, заглатывал набегавшую горечь и ждал, когда наступит тишина. Вот затихли шаги на лестнице. Вот надзиратель заглянул во все камеры и уселся пить чай. Казаков уснул. Тихо…
Федя намочил угол тисненного переплета «Нового завета», пуговицей наскоблил с него краски и, окуная в нее разжеванный кончик спички, принялся писать:
«Все правда. Не подумал я и в горячке сказал все другому человеку. Пришлось сказать. И не прячусь я. От меня синие собаки ни слова не добились, и есть я прежний, каким был…»
Федя прислушивался к дыханию Казакова, к тишине коридора, водил рукою и оттеснял подступавший к горлу жар.
Хотел, чтобы товарищи прикоснулись к его боли, и сознавал, что выползающие из-под спички безобразные слова только намекнут на то, что творится с ним. Обертка от чая стала рябой от слов и покоробилась. Федя свернул ее в комочек и услышал шопот:
— Переписываться начинаете? Одного карцера мало?
Федю пронизало неприязнью, и он притаился: «Следит, подглядывает. Сейчас со своими услугами подкатится».
— Вы хотя бы со мной посоветовались, — продолжал Казаков — Жалеть потом будете…
«Ага, вот, только опоздал ты, опоздал». Федя перекосил плечи и, разрывая записку, кинул:
— Нет уж, я без советчиков обойдусь.
— Это еще лучше. Так и надо.
Улыбка, с которой Федя растирал в пальцах записку, показалась Казакову вызывающей, и он отвернулся. Федя глядел в потолок и растравлял себя.
Возможно, на воле по рукам уже ходит напечатанная на папиросной бумаге заграничная газета - «Искра», а в ней сказано, что вот в таком-то городе он, Федор Жаворонков, пр свалил типографию.
Товарищи во всех городах запоминают его имя и фамилию: «Жаворонков, Федор Жаворонков, Жаворонков…»
На заводах и фабриках сознательные приглядываются к каждому новичку: «А это не тот, о котором писали, не Федор Жаворонков?»
Когда его освободят, Смолин, Фома и другие будут шептаться:
— Тес, Федька идет.
— Поджал хвост, а какой боевой был.
— Да-а, заведется вот такой гусек и шлепает нашего брата!
— Не ходи по морозу босиком.
А Саша? Как он встретится с нею? А если она согласилась на то, что предлагал ему полковник? Согласилась, а его встретит слезами, рассказами о том, как ее допрашивали и хотели убить…
Федя с отчаянием сознался, что он поверит ей, что даже сейчас ему чудится ее дыхание и пьянит его. А верить ей нельзя, нельзя. Жандармы всему обучат ее. Она тайком будет бегать к ним с доносами. Ведь были же такие случаи.
Рассказывал же ему Фома, как это делается.
Боль и бешенство скручивали Федю. На утреннюю оправку он вышел разбитым, с мутной головой. Усатый арестант поджидал его:
— Ну, давай скорее.
Сзади подошел Казаков, отстранил усатого от Феди и показал ему кулак:
— Вот ответ, видишь? Так и скажи там, и не лезь.
Изобью!
Арестант побагровел и зашипел Феде:
— Вот что-о-о, ты уже в его лапах? Ну, слушайся его, слушайся, он тебе покажет, почем сотня гребешков! Он на эти дела и подкинут сюда… Он…
Из коридора на носках подкрался надзиратель и схватил усатого за рукав:
— А-а-а, шепчешься? Через тебя, значит, они записочками орудуют!? А я отвечай! Идем в контору? Там тебе прополощут зубы! Идем!
— Эх, ты, гнида, из-за тебя пропадаю, — убито шепнул усатый в лицо Феди.
Надзиратель потащил его в коридор. В глазах ошеломленного Феди усатый вырастал в друга, в товарища, а Казаков падал, линял, превращался в ловкого, подсаженного жандармами прохвоста. Воспоминание о том, как Казаков пытался узнать о заводских кружках, как бы добило его, и Федя перестал разговаривать с ним.
ХХII
В неволе нарочитое молчание одного кажется другому нелепым и подлым. Оно врастает в проклятые стены, ввинчивается в грудь, обжигает сердце и вырывается из горла упреками, угрозами, бранью. И чем больше падает в это молчание слов, тем шире топорщится оно, тем острее его шипы. И наоборот - оно поникает и сгибается, когда другой на молчание отвечает молчанием. Тогда в том, кто замолчал первым, закопошатся сомнения, раскаяние и начнут жалить его. Он замечется по камере, станет грызть ногти и подтачивать себя: «Почему я перестал говорить с ним? Он же мой товарищ…»
Казаков знал это, но ответил на молчание Феди молчанием. Иного выхода, казалось ему, у него нет. Он начертил на полу шахматную доску, расставил на ней фигуры и, свесив с койки голову, вел с воображаемым противником бесконечную партию.
А Федя ходил и ходил. Следы его ног серели на асфальте млечным путем. Когда в голову вступала муть и ныли ноги, он ложился, прижимал ко лбу руки, задремывал и вновь ходил.
Казаков прислушивался. Торопливый хруст шагов вызывал в нем горькую усмешку: «Э-э, голубь, не выдержишь ты, раз нервы шалят».
Он был вдвое старше Феди, больше видел, больше знал, но понимать жизнь так, как надо, ему мешала привычка делить людей по группам, по характерам, и он часто ошибался. Ошибся он и на этот раз. Он думал, что его молчание угнетает Федю, а оно, наоборот, радовало его и стенавраг, и Казаков - враг, и стена молчит, и Казаков молчит; так и надо, им не о чем говорить. Более того - молчание Казакова крепило в Феде уверенность, что он прав: «Притворяется обиженным, молчанкой хочет сбить меня с толку.
Держи карман шире, собьешь».
Минутами он даже не замечал Казакова. За сутки оглядел всю свою жизнь - точно вновь пережил ее — и пожалел, что не сделал этого раньше. Еще вчера он мог утверждать, что жизнь его сложилась такой, а не иной, сама, что сложил ее он сам. Не захотел - и не завел гармоники. Не захотел - и не ходил с ребятами драться на хутора, не возвращался оттуда с проломленным черепом, в обрывках рубах. Не захотел - и не ходил в дома с вызывающими фонарями, не болел, не заражал других, не подмигивал замужним женщинам. Многие сверстники прошли сквозь это, сквозь часть или частицу этого, а он не захотел, — вот и все.
Он - главное, все от него зависело. А теперь оказалось, что это не так. Оказалось, он не понимал, почему он такой, почему его жизнь такая.
Складывал ее он, да, но без товарищей она была бы иной. Разве не они словами и примерами заставили его вглядеться в слободку, в завод, в отца и свернуть от нахоженных дорог в сторону? Не будь их, разве устоял бы он перед музыкой трактиров и пивных? А гармоника? Зачем он лжет себе? Разве он не млел от желания перекинуть через плечо ремень, распустить мехи, выплеснуть на лады весь жар из груди и грянуть на всю слободку так, чтобы все окна раскрылись, чтоб все глядели на него, чтоб следом шла ватага, а впереди плясуны вздымали ногами пыль?
А Веселая улица? Ого! А кто с мальчишками ходил туда, глядел, как рабочие прогуливают получки? А кто забирался там в палисадник, кто сквозь стекла ошаривал глазами танцующих и заглядывался на полуодетых женщин? Может быть, не он похвалялся перед мальчишками, что наворует много дров, продаст их и обязательно пойдет туда, в яркий свет, к женщинам. Он не сделал этого знал, что его не пустят туда, но хотел этого, но думал об этом и не раз тешился мыслью, как войдет, сядет и велит музыкантам играть. Тешился и ждал поры, когда можно будет сделать это. И только товарищи дали ему понять, что ничего, кроме горечи, не дадут ему притонные радости.