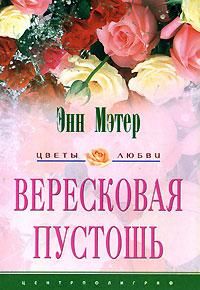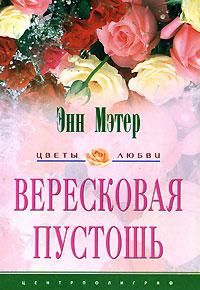Н Ляшко - Минучая смерть
— Подаяния не берем, а за это благодарим.
Княгиня навела на него лорнет:
— А вы, вы верующий?
— Хуже того.
— То есть как хуже? Что вы говорите?
Тучный начальник тюрьмы забеспокоился и шепнул княгине:
— Это политические, ваше сиятельство, я вам говорил, что с ними…
— Ах, да, это те, двое, мерси, мерси…
Княгиня ушла, не сказав секретникам слов утешения.
Казаков и Федя читали «Новый завет» порознь и вместе, и оба лукавили при этом. Казаков называл «Новый завет» глубоким, мудрым, полным величайшего значения, ждал возражений Феди и прятал улыбку. Федя в свою очередь старался вызвать его на откровенность разговорами о чудесах Христа:
— Как же это понимать надо: от Лазаря несло тяжелым духом, а Христос воскресил его, а?
Казаков напускал на лицо серьезность:
— А что вы думаете? Вы разве в этом сомневаетесь? Да?
— Да не-эт, — тянул Федя, — разве можно сомневаться?
Я так… уж очень интересно…
Постепенно разговоры их как бы покрылись ржавчиной, стали скучными, и они придумали развлечение, — рассказывать друг другу отдельные события из своей жизни, а чтоб и эти рассказы не ржавели, решили делать это в определенное время-с обеда до поверки. Чуть раздавался звонок, они обрывали рассказ до следующего дня.
Казаков два дня рассказывал о. своем путешествии По Сибири, где живет якобы его дядя. О людях рн говорил так, будто только что сидел с ними за столом. Когда заходила речь о чем-либо сложном - о золоте, например, о северном сиянии, — он как бы раздергивал явление на ниточки, раскладывал ниточки, показывал их порознь и вновь сплетал. Это волновало и подавляло Федю: «Кто он такой?»
Когда подошла его очередь рассказывать, он долго отказывался:
— Да о чем я буду рассказывать? Я нигде не бывал, ничего особенного со мною не было.
— Ну-ну-у, — усмехался Казаков, — не может быть, чтоб вам не о чем было рассказать. Да начните хотя бы с того, как вы учились работать.
Это понравилось Феде. Он потер лоб и начал рассказ плавно, живо, но стремление излагать собьтм в том порядке, в каком они протекали в жизни, сбило его. Люди облипали мелочами, барахтались и вязли в них, события дробились и мешали друг другу. Рассказ выходил путанным, похожим на выдумку. Казаков заметил, что Федя страдает, принялся расспрашивать его и выпрямил рассказ. Это ободрило Федю. Он охотно отвечал на вопросы и чертил на полу части котлов, инструменты, показывал, как работают ими, как испытывают котлы. Расспросы Казакова увлекли его, но когда тот спросил, а есть ли на заводе кружки, вздрогнул и оборвал:
— Работа у нас прямо каторжная…
Казаков потер руки, выкрикнул:
— Ну и молодец же вы! — и засмеялся: — Дружба дружбой, а табачок врозь? Да?
Феде тоже хотелось смеяться, но он подумал: «Шут его знает, кто он», с усилием притворился, будто не понимает над чем смеется Казаков, поблуждал по секретке взглядом и зевнул:
— Эх, а не соснуть ли пока что?
С того дня, как он убедился, что жандармы ни в чем не могут уличить его, он спал от поверки до поверки и перед сном блаженно улыбался: «За все года отосплюсь и впередь загон сделаю». Покой его стал ломаться в начале третьего месяца заключения. Среди ночи из-под козел как бы протягивалась рука и дергала его. Он просыпался, оглядывал секретку, закрывал глаза, считал до ста, до пятисот, до тысячи. Язык ныл, а сна не было. Он заставлял себя не думать, не шевелиться и глядел в одну точку. Трещины потолка сливались, и среди них вставали тюремные ворота, отец с узелком. Привратник-надзиратель сердито кричал на него: «Опять пришел?! Сказано, что твоему разбойнику не ведено передач принимать! Слыхал? Уходи!»
Не успевал Федя мысленно довести отца до слободки, с потолка в тусклый свет лампочки спускался запруженный полицейскими, жандармами и сыщиками проходной двор завода. Рабочие шли сквозь них и горбились. Федя стряхнул с глаз толпу у ворот и увидел Фому; Тот кивал на проходную контору и говорил: «Видишь? Пронюхали, что части для типографии делались на заводе. Бить тебя мало, молокососа!..»
Но особенно тяжело угнетали Федю мысли о Саше.
Он видел ее избитой, изнасилованной, с безумными глазами.
В горле щипало, ярость до хруста напруживала руки. А затем начинало чудиться, что Саша давно во всем созналась и выпущена из тюрьмы, что жандармы ждут, когда он сам попросит их допросить его и сознаётся. Он срывало с постели, сдвигал над бровями узелок морщинок, сновал по секретке и ворчал в приникавший к стеклышку глаз надзирателя:
— Ну, и спи сам, а я не хочу…
Казаков слышал, как ширится в нем тревога, и однажды сказал:
— Оставили бы вы это…
— Что оставить?
— Да тосковать и волноваться. Здесь тоска прожорлива, не накормить ее вам.
— А я разве тоскую? Что вы?
Федя пожал плечами, но Казаков не поверил ему, сделал из хлебного мякиша шахматные фигуры, осколком стекла начертил на козлах доску и предложил Феде учиться играть в шахматы. Федя обрадовался, но игра не заглушала в нем тревоги и показалась ему скучной. Он туго запоминал ходы фигур, долго путал их, но в конце концов освоился с ними. Тогда Казаков сказал ему:
— Ну, теперь давайте играть серьезно. Первый раз я буду играть без пушек, без коня, без двух пешек и дам вам мат вот на этой клетке.
— На этой? — усомнился Федя. — Обязательно?
— Обязательно.
«Заливай калошу, корабль будет!» — усмехнулся Федя.
Стараясь не думать о Саше, о воле, он обдумывал каждый ход, примерялся, рассчитывал, но мат на указанной Казаковым клетке получил.
— Ах, комар его забодай! Давайте еще…
— Можно, что ж.
И во второй, и в третий, и в седьмой раз проиграл Федя.
Это удивило и захватило его: «Как же так?» Он начал осмысливать ходы фигур, значение открытых им дорог, силу их сцепленных угроз, предательские прыжки коней и коварство пешек.
— Вот так штука! Персы, говорите, выдумали? Народ, выходит, с башкой.
Казаков рассказал ему о персах, задачами подогревал в нем любопытство, изредка с хитрецой проигрывал ему и после каждого его удачного хода говорил:
— Вот это правильно. Вообще - у вас характер холерический. Не тревожьтесь, это не значит, что он холерный, нет, как раз наоборот. Хожу. Да, наоборот. Холерики это народ № 1, - это крепкая, неломающаяся, гибкая порода. Отвечаю. Холерики все вынесут, все сделают. Да.
Вы - холерик, но вам надо тренироваться, то есть подтянуть духовные силы к уровню физических сил, привести себя в равновесие, так сказать, сбалансироваться, или, еще проще, вы не должны полагаться на то, что есть, вам надо воевать за то, что должно быть. Вы подставляете, холерики этого не должны делать, этим пусть занимаются флегмы и сангвиники… Да, да… Через два хода я бесплатно возьму фигуру. Имейте это в виду, честно предупреждаю…
XX
В одну из беспокойных ночей Федя ударил себя по лбу:
«И какой я дурак: надо узнать, в тюрьме ли Саша, — вот и все». Ему стало легче. На утреннюю оправку он вышел озабоченно и зашептался с надзирателями. На коридоре их дежурило четверо - по два в смену, третий являлся на время прогулок. Все они были в летах, хмурые, усатые.
Однообразная жизнь стерла с них следы надежды, радости, и глаза их мерцали устало, равнодушно. На просьбу Феди узнать, не освобождена ли Саша, они не отзывались, скашивали на стороны глаза и загоняли его в камеру:
— Заходи! Кончил оправку и заходи!
Тот, кто выводил на прогулку, сердито оборвал Федю:
— Поболтай еще, может, спина крепче засвербит!
По утрам, как только открывалась секретка, Федя мчался в уборную и порою заставал там уголовных. Его просьба настораживала их. Иные отмахивались от него, иные ворчали:
— Поищи-ка на грош рублевых дураков.
Один - самый, казалось, подходящий: молодой, в кандалах - погрозил ему:
— Гляди, как бы из тебя за эти штуки требуху под умывальник не выпустили.
Сочувственно отнесся к его просьбе только усатый, похожий на кота, арестант:
— Ох-хо-хо, скучно, знаю. В здешних порядочках заскучаешь. Так все улажено, так улажено, что держи, а то вырвусь. И ничего сделать нельзя…
Федя понял, что на коридоре все боятся друг друга, и со злобой махнул рукою: «Недаром, видно, эту чортову дыру секреткой назвали». Его все чаще мутило от липкого, противного одиночества, и он изредка думал: «Хотя бы на допрос, подлецы, вызвали!» На допросах сквозь плутни и улыбки ротмистра веяло ветерком воли, здесь же, в четырех стенах, глухота могилы - ни звука, ни шороха.
Порою ему мнилось, что на слободке и на заводе уже забыли о нем, и его подмывало написать отцу. Старик захватит письмо на работу, его будут читать в котельном, потом передадут в другие цеха, и оно будет ходить по рукам, пока не сотрутся слова. А главное - может быть, старик в ответе обронит слово о Саше так, что жандармы не догадаются, а он поймет.