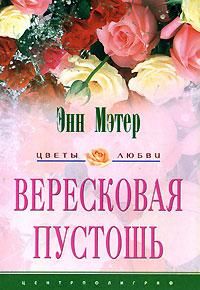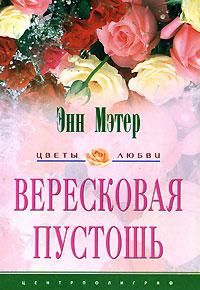Н Ляшко - Минучая смерть
— Ага, вы печетесь о нас! Угождаете этой секреткой жандармской сволочи, позволяете в конторе вести допросы по ночам, а перед нами разыгрываете благодетеля! Но мы не дураки, мы понимаем и… и убирайтесь вон! вон!
Федя затопал дребезжавшими ногами, перервал голос и, хватаясь за тюфяк, полетел в черноту. Затылок начальника взбежал на воротник.
— Это еще что? — закричал он. — Истерика? Бабий маневр?
Чиновник подхватил его под-руку, повел за дверь и закурлыкал по-французски. Начальник хмыкнул, неожиданно разразился криком:
— Фельдшера с прислугой! Дажжива!! — вбежал в секретку и захрипел в лицо Вишнякову: — Отправляйтесь оба в больницу, оттуда переведу, но языком не болтать мне, ни-ни-ни…
Начальник погрозил Вишнякову пальцем, вдосталь наворчался, отдуваясь, вышел в коридор и загудел прибежавшему с арестантами фельдшеру:
— Обоих в пустую палату и сделать все, что… ну, при этих дурацких голодовках… Если что, насильно кормить, без разговоров и всяких пустяков…
— Слушаю! Взять обоих!
Арестанты положили неподвижного Федю на одеяло и понесли. Вишняков отказался от их помощи и пошел сам.
Стены на коридоре шарахнулись от него, арестанты и надзиратели то вырастали в великанов, то расплывались. Ноги казались Вишнякову склеенными из кусочков и трещали. На лестнице площадка хрустнула под ним и понеслась книзу, но арестанты успели подхватить с нее Вишнякова:
— Вот чудак-то! Клади…
В себя пришел он в палате, на койке, под серым кусачим одеялом. Перед ним стоял арестант с комком ваты на блюдечке и мешал увидеть то, чего ему недоставало. Чего ему недоставало, он не смог бы сказать, но запрокидывал голову и глазами ошаривал пустую палату. Арестант оглянулся… Вишняков окинул взглядом койки и вздохнул:
«Здесь, ну, и хорошо».
Федя в стороне от него с мукой всплывал из беспамятства на руки фельдшера. Веки его взметнулись и обнажили тусклые глаза. Он скользнул ими по койкам и тоже затревожился: «Где же он? А-а, здесь». Взгляд Вишнякова оживил его, но воспоминание о том, как он потерял сознание, перекосило его лицо: «Опять я подгадил».
— Ну, во-от, во-от, — протянул фельдшер и, должно быть подражая помощнику начальника тюрьмы, оживился: — Атлично, атлично, гаспада…
Он помешал что-то в эмалированных кружках и скомандовал:
— Посадить и поить, да не сразу, глотками.
Арестанты с двух сторон приподняли Федю в поднесли кружку:
— Пей, брат…
Федя не знал, как ему быть, беспокойно потянулся взглядом к Вишнякову, и когда тот кивнул, разнял губы.
Питье было сладковатым и густым. Струйки его, пробегая по горлу, рассыпали в груди искорки тепла, те скользили к рукам, к ногам и приятно туманили голову. Веки свела слабость. Федя не слышал, как его укладывали и укутывали одеялами. Лишь в полночь он почувствовал на себе прохладную руку и увидел фельдшера.
— Атлично, атлично…
Его вновь приподняли, вновь поили, вновь по телу сновали искорки, вновь приятно радужилась голова, но покоя больше не было: будили удары сердца, поражало то, что секретка стала такой просторной, глаза искали окошка у потолка и смыкались.
Вишняков с рассвета до утра бежал на лыжах по чистым сибирским снегам. Его обступали ели в слюдяных шапках, радовали мягкие, обшитые мехом лыжи. В бок дул ветер, из-за пригорка по белизне снегов набегала синяя щетина горы, и сердце барабанило: прощай, ссылка, ау-у! За горою город, в городе друзья… Но гора вдруг расплылась, в лицо вместо ледяного ветра пахнуло теплым, багровым светом и ворчаньем:
— Ну-у, ты-ы…
Он вскинул веки, зажмурился в полосе яркого морозного солнца и увидел старого острожного врача.
— Проснись, или прикажешь пушками будить? Много чести. Покажи язык. Что болит? Скажите, пожалуйста.
Моли создателя, что легко отделался. С бородой, а ум детский. Что?
Старик поводил по липу Вишнякова крабьими глазами и двинулся к Феде:
— А ты что? Мальчишка, а туда же. Покажи язык.
Спал как? Ах, беспокоило сердце. Эка невидаль? Все мудрят, все недовольны, все им - не так…
Врач заерзал дряблыми ногами к выходу. За ним вышел фельдшер, а надзиратель оглядел палату, путая полосы солнечного света, ощупал решетки, поднял что-то с пола и протянул руку:
— Ваша, должно быть?
— Что это? — удивился Федя.
Надзиратель подошел к нему вплотную, положил на его ладонь пуговицу, раскрывающуюся капсюлю для порошков, улыбнулся:
— Пришьете, пригодится, — и ушел.
В ноги Феди вступил холод, кожа на голове приподнялась, и под нею прошла мысль: «Яду прислали, боятся, что я начну выдавать». Он до подбородка натянул на себя одеяло, отвернулся к стене и оглядел капсюлю. На ней чернилами тонко были выведены буквы «Ф.Ж.» Он с трудом раскрыл капсюлю и удивился: вместо яду оттуда выглядывала трубочка пергамента. Он выдернул ее, снял ниточку, развернул и впился глазами в написанные знакомой рукой мелкие строки:
«Брат в вере! Миновали глад и мор. Мы во благовремении совлекли на новую землю пепелища, скот и плуги. Дух Господний укрыл нас и труд наш облаком сладчайшей тайны и послал нам мир и довольство. Воздай на чужбине хвалу Всевышнему, не ропщи и денно и нощно очищай душу для иной жизни. Лютует море, нужны крепкие челны - человеки - пловцы к восходу чаемой Славы на земле. Стройнейший Лука здоров, крепок и распускается, яко кедр Ливанский. Предай забвению дерзость нашу о юнице. Крепость души ее, немота уст ее и благостное терпение источили камень маловерия. Слава силе Господней, что мчит братию к Радости и Счастию на бренной земле.
Любящий тебя Фома Кемипиский».
Грудь Феди колыхнулась, и в ней освежающим дождем зазвенело: «Типография работает, Лука помогает Фоме, Саша не созналась, усатый подослан, позора нет и не будет, не будет».
В воображении Феди зароились Смолин, Фома, отец, осокорь, сад, могила матери. И все это ополоснул голубой блеск глаз Саши. Занемевшая в сердце чернота, со вздохом вырвалась из груди.
Федя вложил в капсюлю записку, проглотил ее, прижал ко рту руки, придавил губы, но смех вырвался из-за них и ужаснул Вишнякова.
— Что вы? — вскочил он. — Жаворонков, товарищ, да что с вами? Слушайте, погодите…
Феде хотелось кинуться к нему, обнять, поцеловать его запавшпе глаза, его лоб, его руки, те самые, что вынимали его из петли, рвали за ухо, подносили пить, касались лба. Хотелось сказать, что смерть прошла, пролетела, рассеялась, но в напруженной радостью груди как бы встал кто-то, только что родившийся, перешагнул через боль позора, через муки смерти, сдержал смех, притушил глаза и почти спокойно сказал:
— А ведь одолели мы их, а? Переведут? Здорово!..
1926–1927 гг.