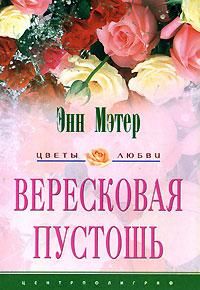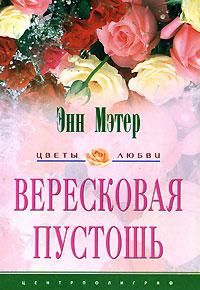Н Ляшко - Минучая смерть
«Теперь, голубчики, ваша песенка спета». В груди надзирателя наготове стояли смех и слова: «Вот, ешьте, ешьте, довольно у дурака на башке волосы считать».
Он глазами подталкивал Вишнякова и Федю к хлебу и волновался, будто сидел на берегу с удочкой: вода прозрачна, рыба вот она, на виду, перед крючком стоит, но не клюет, не глядит на приманку. От нетерпения в горле надзирателя запершило, висевшие на руке ключи ударились о дверь, и он выругался:
— Вот проклятая политика!..
Федя вздрогнул, глянул на стол и, задыхаясь хлынувшим от хлеба запахом, уронил:
— Напрасно мы впустили в камеру хлеб.
— Ничего, в обед выбросим, — почти с удалью отозвался Вишняков. — Не сушить же его на богомолье.
Федя поджал ноги и схватился за слова Вишнякова:
— А на богомолье, должно, хорошо ходить…
— Как вам сказать… Во всяком случае - интересно.
Моя тетка сходит, бывало, и лет пять рассказывает потом, чю видела. Походить пешком по России каждый должен, даже обязан. Я в молодости ходил на Кавказ, в Крым, на Урал. Теперь не до того, но иногда снится, будто иду…
Дверь опять приоткрылась:
— Кипяток!
Вишняков и Федя глянули на арестанта с медным чайником и отвернулись.
— Наливай сам! — заворчал надзиратель: — Господ, видишь, корчат, хвосты себе подкусывать собираются и ваксу вылеживают.
Арестант выплеснул в нечистоты воду из чайника и наполнил его дымящимся кипятком. Дверь закрылась, и Федя сказал:
— А я вот нигде не бывал. На Кавказе хорошо?
Вишняков пересилил тошноту и принялся рассказывать о Кавказе. Федя ясно видел окно, потолок, свои ноги, затем стены как бы раздвинулись, из-за них пахнуло ветром, закачались сады, запахло яблочным медом. Где-то заголосил муэдзин:
«Алла-алл-а-алла!..»
Федя шел на его крик, тряс яблони, рвал сливы, захлебывался их соком, слышал гул бубна, шум воды, спешащей по камням, и торопился. Звуки острожного колокола «Дон-дон-дон!» — остановили его. Из-за садов и гор вдруг выплыли противные стены, опустился потолок, вместо солнца глянуло дымное от пыли и копоти окно с решеткой.
Федя перестал шевелить языком и оторвался от яблонь и слив.
— Пора вставать. Сможете? — спросил Вишняков.
— Смогу-у…
Вишняков взял со стола хлеб. Они оба старались не глядеть на него, подошли к двери, спинами прижались к стене и сквозь звон в ушах слушали. От аромата хлеба, от его верхней розовой корки охватывала пьянота, и рука, в которой он был, легонько дрожала.
По коридору перекатывался грохот открываемых и закрываемых дверей, с деревянных лотков соскальзывали баки со щами и кашей. В секретку прорывались дразнящие запахи и стесняли дыхание. Язык шевелился, зубы ловили края губ и стискивали их.
Вот загремела дверь соседней камеры. Теперь их очередь. Шаги ближе, тише: надзиратель и арестант подкрадывались. Надзиратель чуть слышно зашурудел в скважине ключом и открыл дверь:
— Скорей…
Вишняков преградил арестанту с обедом дорогу, через него выбросил в коридор хлеб, вынес за порог ногу, уперся ею в пол и закричал:
— Опять!? Ставьте обед у двери и убирайтесь!
Надзиратель подтолкнул арестанта:
— Неси, неси. Отступитесь, господа! Доиграетесь вы с этим, ой, доиграетесь! Вам больничную еду дают, а вы…
Арестант согнулся, намереваясь проскользнуть в секретку, но Федя вырвал из его рук судок, прикрытый миской с кашей, и, расплескивая суп, швырнул за дверь.
Вишняков принял с коридора ногу:
— Вот и все.
Надзиратель яростно захлопнул дверь и заголосил:
— Над пищею глумятся! Супом, как собаку, обливают, а ты терпи, гляди им, чертям, в зубы…
— Что, опять? — донесся издалека голос.
— А, ну да, опять! Распустили на свою голову!
Голоса покатились к лестнице, окрепли и в топоте ног ринулись назад:
— Гляньте, что на полу!
— Хуже сумасшедших стали!
— Скрутить надо, а то всю посуду перебьют!
Вишняков и Федя молча спустили с коек ноги и сели.
Из-за распахнутой двери ветром влетел выбритый гибкий помощник начальника тюрьмы:
— Гаспада, вы опять?! Пасуду портите, на людей наводите страх! Мы вынуждены применить к вам самые стражайшие меры! Мы…
Вишняков и Федя глядели на него выпитыми голодом глазами и ждали, а когда он перестал размахивать руками и кричать, Вишняков спокойно проговорил:
— Пусть ставят пищу у двери. Мы не раз говорили об этом, но кому-то нужно, чтобы шум повторялся.
— Это вот ему нужно, — подхватил Федя, указывая на старшего надзирателя. — Мы восемь дней твердим ему, чтоб, к нам не вносили пищи.
— Гаспада, пачему!
— Не будем есть, пока не переведут к политическим…
— Гаспада, гаспада…
Помощник доказывал, что ни он, ни начальник тюрьмы не в праве переводить секретников в корпус политических, что, положа руку на сердце, он не понимает, зачем такие умные люди, а он считает Вишнякова и Федю «таковымы» — подвергают свою жизнь риску. Надзиратели про себя ругали его: «Защелкала, глиста дворянская!» — хмурились и нетерпеливо перебирали ногами.
Старший надзиратель раздраженно шепнул:
— Да, чего вы, ваше благородие, говорите с ними? Они вон даже не встают перед вами.
Тут только, казалось, помощник заметил, что Вишняков и Федя сидят, и округлил глаза:
— Гаспада, это же, это… ну, вы не признаете законов, но это же невежливо… Я же стою перед вами, а между тем…
— Да, да, — согласился Вишняков, — но нам трудно соблюдать правила вежливости.
— Я нанимаю, но в паследний раз предупреждаю, в паследний раз…
— Переведете, без предупреждений все кончится.
— Это невазможно, прашу заметить, невазможно, и мы вынуждены будем наступить с вами…
Помощник запнулся, как бы поймал что-то пальцами, стиснул их и вышел.
Феде хотелось сказать, что помощник сносный человек, что другой дал бы волю надзирателям, но слабость пригнула его к подушке, и он поплыл в туман. Разбудило его щелканье замка. Серый арестант запер в фонарь над столом капающую керосином лампу с желтым огоньком и исчез.
Одуряюще запахло пролитым супом. Зубы перехватывали слюну, в ребра толкалась зудящая, сродни изжоге, боль.
В воображении лесом оглобель встала виденная когда-то ярмарка, закружились столы с пряниками, столбы баранок, вороха воблы. Над ними замигали глаза надзирателей, зашевелились их колючие усы и лохматые брови. Их заслонил коридор, усеянный веснушками просыпанной каши и рыжего маслянистого жареного лука. Веснушек было много. Федя подогнул колени, ртом начал собирать их с пода и вздрогнул.
— Кипяток!
У стола копошился арестант с красным, до блеска начищенным, чайником. День уже отступил от решетки. Дверь, захлопываясь, обвеяла Федю паром. Он вдохнул его и очутился дома, на лежанке, рядом с котом.
«Феди-инь, — от окна позвала его мать, — глянь, на осокорь какая птичка села. Скорей, а то улетит, хохлатенькая, а ножки тонюсенькие, как соломинки…»
Федя животом скользнул по углу лежанки, затопал к матери, взлетел на ее руки и, не успев взглянуть на осокорь, упал на койку секретки.
— Дон! Дон-дон-дон! — по-псиному лаял тюремный колокол на поверку.
Ватага надзирателей топала по коридору, гудели голоса.
Из общих камер прорывалось пение молитвы. Взвизгнула дверь на лестницу, гул шагов свернулся, и тюрьму обняла длинная, бредовая, голодная ночь…
XXVII
— Встать! Смирно-о!.
В секретку вошел чиновник, похожий на грача с белой грудью. Неподвижность Вишнякова и Феди как бы подсекла его коротенькие ноги. Он повернулся к затянутому в сюртук начальнику тюрьмы и по-французски курлыкающим голосом удивился: не притворяются ли заключенные? Начальник колыхнулся и, с трудом подбирая слова, прогудел, что заключенные голодают серьезно, но, в общем, конечно, от них всего можно ожидать.
Вишняков повернул голову и в тон ему по-русски добавил:
— Даже того, что околеют…
Начальник встопорщил губы, а чиновник обрадовался и шагнул к Вишнякову:
— Приятно, что вы знаете французский, но объясните нам, почему вы голодаете? А-а? Но представьте, что будет, если каждый заключенный захочет сидеть, где ему вздумается? Наконец войдите в мое положение и в положение администрации. Господин начальник всячески, я это по опыту знаю, смягчает положение вверенных ему людей, а вы, человек образованный, вместо того, чтобы ценить это, стараетесь причинить ему больше хлопот, волнений, вы…
Чиновник, должно быть, чувствовал, что говорит слишком гладко, и старался подогреть свои слова жестами, игрою голоса. Это не удавалось ему. Федя перестал понимать его и раздраженно подумал: «Гусь лапчатый». Бас начальника насторожил его, а слова о том, что заключенные вообще не отдают себе отчета, как трудно управлять тюрьмой, сбросили его с постели и обожгли горло криком.