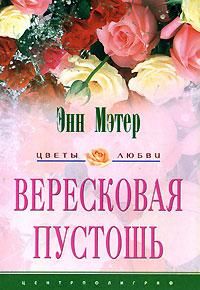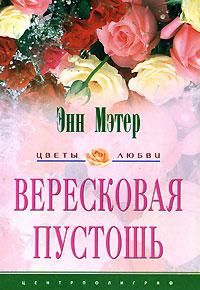Н Ляшко - Минучая смерть
Он запнулся и, как бы делая над собой усилие, сказал:
— Ибо, между нами, конечно, говоря, я расположен почему-то к вам и верю, что вы обманывать меня не станете. Вам надо только помочь мне распутать это. Ну, укажите, где и с кем вы были тогда с сумерек по момент ареста. Это необходимо для того, чтобы я смог показаниями свидетелей доказать вашу непричастность к этому и освободить вас. Где вы были?
«Эх, и ловок же!» — подумал Федя и, помедлив немного, спросил:
— А если я был у мужней жены?
Ротмистр перекосил губы и приосанился:
— Господин Жаворонков, оставьте шутки. Вас подозревают в тяжелом преступлении, и вы не мешайте мне, пока вас не потребовали в Петербург. Там с вами будут говорить иначе.
Феде было ясно, что ротмистр все обдумали заранее распределил места своим улыбкам, смущениям, испугам. Это занимало его, во ему не хотелось, чтобы ротмистр уловил в его голосе нотки игры, и он обиженно протянул:
— Ну да-а, мне шутить нельзя, а вам можно.
— Помилуйте, разве я шучу? Я среди ночи явился, хотя, кажется, не обязан делать этого…
Федя до боли прижал к колену кулак и глухо забормотал:
— Выходит, мне еще благодарить вас надо. Взяли меня, лишусь я на заводе места. Ну и ладно. По-вашему, значит, я виноват в чем-то. Вот и орудуйте, доказывайте, судите.
А мороки вашей мне не надо. И без нее тошно, надоело…
Федя положил ногу на ногу и отвел в сторону глаза.
— Позвольте, — всполошился ротмистр, — вы что же, отказываетесь разговаривать со мною? Благодарю, благодарю…
Он раскрыл портфель и зашуршал бумагами. Федя представлялся ему уже сбитым с толку, добрым, влюбленным теленком. В то, что у него хватит выдержки на длительное молчание, он не верил и улыбался. Федя морщил лоб и досадовал на себя: «Напрасно я сразу не отказался разговаривать с ними». От сознания, что больше ему не надо запоминать свои показания, что он не даст ротмистру повода поймать его на противоречиях, ему было спокойно, даже весело.
В руках ротмистра шуршали бумаги, за дверью мерно ходил надзиратель. «А далеко ушел бы, кабы шел», — подумал о нем Федя и принялся считать его шаги. На второй тысяче ротмистр сбил его:
— Ну-с, будем продолжать? Я вас понимаю: иногда необходимо собраться с мыслями, а?
Федя покосился на часы, отметил, что промолчал больше получаса, и перевел взгляд на окна. Фонарь освещал решетку, на ней бисеринками сверкали капли не то дождя не то растаявшего снега. «Скоро зима уже. У отца от сырости мозжит нога, а эти подлецы разворотили печку…»
— Да неужели вы серьезно решили не отвечать мне? — опять нарушил тишину ротмистр и, подождав немного, поднялся: — Посмотрим, но предупреждаю: я начинаю менять мнение о вас. Уведите!
В камеру Федя шел с усмешкой: «Взял? Погоди, еще возьмешь». От расспросов Казакова он отмахнулся:
— А ничего особенного. Какой-то барин допрашивал.
Теперь долго не придет.
И не пойди ротмистр после допроса к знакомым на ужин, так и случилось бы. За ужином было весело, ротмистр выпил больше, чем надо, за картами почувствовал себя легким, сильным, рассказал о молчании Феди и прищелкнул пальцами:
— Но мы его отучим подражать пломбированным вертопрахам, отучим, у нас для этого есть пикантненькие методы…
С мыслью о Феде, ротмистр ехал домой, с мыслью о нем проснулся, то и дело щелкал пальцами и бормотал; — Посмотрим, посмотрим! — и раньше обыкновенного поехал в жандармское.
Вахмистр и прыщеватый человек старательно помогали ему готовиться к продолжению допроса. В тюрьму вечером он ехал в волнении, как на охоту. Введенного Федю встретил улыбкой, опять предложил ему папиросу, не замечая его молчания, читал показания старухи Свечиной, ее соседа, видевшего будто бы, как Федя выносил в переулок вещи.
Федя притворялся сонным, откровенно зевал, но слушал жадно, освежался словами ротмистра и сдерживал улыбку: «Лови, лови чижа на молитву!» Его до коликов угнетало то, что он не знает почерка Саши. Позывало взять у ротмистра показания и сказать:
— И зачем вы запутываете меня? Разве Свечина так подписывается?
Отмолчав больше часа, о-н уверился, что жандармы ничего не знают. Ротмистр почувствовал это, выбранил себя за болтливость у знакомых, но не отступил. И на третью, и на четвертую ночь надзиратели расталкивали Федю и, ворча, что им ни днем, ни ночью нет покоя, вели его в контору.
— Ну-с, не устали еще молчать? — улыбался ротмистр. — А мне это начинает нравиться…
Слова его тонули в немоте. Он небрежно раскрывал принесенную книгу, глядел в нее и взвинчивал себя: «Заговоришь, оболтус, заговоришь!» Минутами его охватывало бешенство и желание подойти к Феде и ударить его: «Ты заговоришь наконец? Сейчас застрелю!» Ударить еще, еще - в кровь разбить хамское лицо, кровью стереть с него противную улыбку. Ведь причастен он, причастен к этой типографии…
Федя перекладывал руки, переставлял ноги, глядел по сторонам, все тверже молчал и уверенно улыбался;
«Побесись, крепче спать будешь».
Распалившись до того предела, когда надо топать ногами и бить, ротмистр отодвигал книгу, поносил подполье, рассказывал о подпольщиках гадости и с ненавистью глядел на узловатые руки Феди, на его грудь и короткую, тугую шею.
— Недоучки, взбесившиеся неудачники, — с шипеньем клубилось из его рта, — загребают вашими руками жар, прославляются за границей, а вы, как глупое стадо, идете за ними, подражаете им…
Он хотел задеть Федю, оскорбить и вывести его из терпения. Федя слушал и как будто ничего не слышал. Лишь на шестую ночь слова ротмистра вывели его из равновесия.
Он шевельнулся и сказал:
— Вам, видно, делать нечего, а мне опротивело ваше колдовство. Все твердите, будто все знаете, все улики у вас, ну, и уличайте, делайте очную ставку хотя бы со Свечиной.
Пусть она в глаза мне скажет все…
Ротмистр торжествовал: «А-а, прорвался, нехватило пороху!» Губы его осветились, голос стал тихим и ласковым:
— Со Свечиной вопрос покончен, господин Жаворонков: она во всем созналась и, пожалуй, в конце недели будет…
Ротмистр притворился, будто сказал лишнее, прикусил губу и развел руками:
— Ну, зачем вы упорствуете? Нам все ясно.
— И мне все ясно.
— Да? Вот и прекрасно. Я ведь от вас ничего не требую.
— Так что же вам надо?
— А вот, чтоб вы… — и ротмистр принялся подсказывать Феде.
Слова подбирал он тусклые, как бы смазывал их жирком, открывал ими ворота тюрьмы, перебрасывал Федю на волю, дразнил Сашей. Говорил и верил, что теперь дело о типографии пойдет гладко, без запинок.
Федя вслушался и спросил:
— А когда вы уличать меря будете?
По спине ротмистра пробежал холодок нетерпения:
«Мерзавец!» — но он сдержался и заговорил еще мягче:
— А зачем это нужно? Вы же видите, что это ни к чему.
И признаюсь, я — не ожидал от вас такой нечуткости: неужели вы не видите, что я щажу вас, вернее - ваши отношения с Александрой Семеновной? Ведь очная ставка оскорбит ее. Ну, поставьте себя на ее место: невеста, приготовилась к супружеской жизни, и вдруг тюрьма, допросы, ваше недоверчивое отношение к ее показаниям, очная ставка, бррр!.. Она так молода, так любит вас. Вы должны оберегать ее и, как мужчина, наконец, быть более решительным и делать все самостоятельно…
— Что мне надо делать? — встал Федя. — Я, не виновный ни в чем, должен назвать себя виновным? Этого хочет Свечина? Пусть хочет, это ее дело. Я не виноват и виноватым себя не признаю, лоб разбейте, не признаю!
XIX
Гулять Казакова и Федю водили за баню, на дворик-мышеловку. Вверху - небо, с боков - окна острожной церкви, кромки крыши и две бурых калитки. Под взглядом надзирателя они ногами гранили запорошенные первым снегом камни и обменивались словами о погоде, о небе, о долетавших с воли звуках. Не успевали они выдохнуть промозглую муть секретки, надзиратель вынимал огромные часы «За отличную стрельбу», — глядел на них и кричал:
— Кончай прогулку!
Они замедляли шаги, со света слепли в сырой полутьме лестницы, признавали, что снег, действительно, пахнет, пахнет удивительно, и двадцать три часа и сорок минут ждали новой прогулки. И каждый раз, собираясь на нее, играли словами:
— На прогулочку-у.
— На издевочку-у.
Федя изучил привычки Казакова, его лицо, шутки, а Казаков знал уже все обороты его экономной, сложившейся в грохоте котлов, отрывистой речи. В тени оставалось лишь то, что привело каждого из них в секретку. Это они прятали, — об этом каждый мог судить лишь по вскользь брошенным словам другого.
Книг им не давали: нельзя - секретники. Но одна книга — «Новый завет» в красном тисненном переплете была: тюрьму обходила тощая княгиня и подарила каждому арестанту по французской булке и в каждой камере оставила по «Новому завету». Булку Казаков бросил назад в корзину, а «Новый завет» взял: