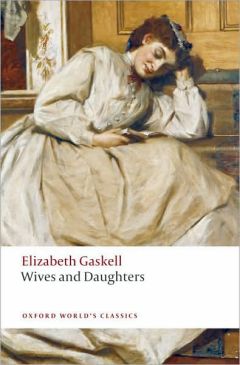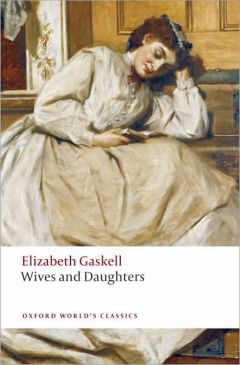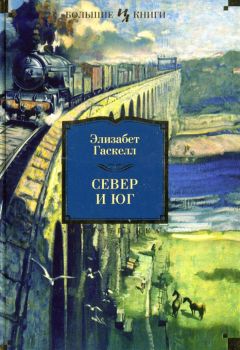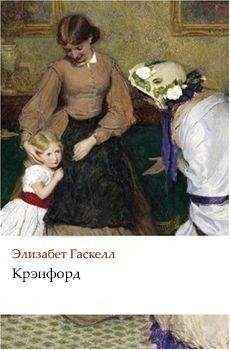Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
– Я ждала тебя, дорогая. Не надо тебе пока подниматься наверх, в гостиную, иначе ты можешь помешать. Там сейчас находятся Роджер Хэмли и Синтия, и у меня есть резоны полагать… Собственно, я чуточку приоткрыла дверь, но тут же затворила ее, так что они ничего не заметили. Ну, разве это не очаровательно? Первая любовь, как тебе наверняка известно, так кружит голову!
– Вы хотите сказать, что Роджер сделал предложение Синтии? – спросила Молли.
– Не совсем так. Я не знаю… разумеется, я и не могу ничего знать. Правда, я слышала, как он говорил, будто намеревался покинуть Англию, не заикнувшись о своей любви, но соблазн повидаться с нею оказался слишком велик. Все это очень симптоматично, ты не находишь, милочка? Впрочем, я всего лишь хотела, чтобы наступлению кульминации ничто не помешало, и потому высматривала тебя… Так что не поднимайся наверх, чтобы ничего не испортить.
– Но ведь в свою комнату я подняться могу, не правда ли? – взмолилась девушка.
– Разумеется, – с некоторой язвительностью согласилась миссис Гибсон. – Вот только я ожидала от тебя сочувствия в такой напряженный момент.
Но Молли этих последних слов не услышала. Бегом поднявшись наверх, она заперла за собой дверь. Уже в комнате выяснилось, что она машинально прихватила с собой лист с ягодами ежевики. Но что значит теперь ежевика для Синтии? Ей казалось, будто она решительно ничего не понимает. Впрочем, что здесь было непонятного? Голова у нее пошла кругом, и вихрь каждодневного вращения Земли подхватил ее и понес, кружа вместе со скалами, камнями и деревьями, не спрашивая у нее позволения, словно она была уже мертвой. А потом в комнате вдруг стало душно, и она инстинктивно подошла к раскрытому створчатому окну и, выглянув наружу, стала хватать воздух широко раскрытым ртом. Постепенно зрелище мягкого и спокойного пейзажа оказало на нее свое умиротворяющее действие, смятение улеглось. Перед нею, купаясь в почти горизонтальных лучах осеннего солнца, предстал пейзаж, который она знала и любила с самого детства, мирный и безмятежный, наполненный тихим течением жизни, каким оставался в этот час на протяжении вот уже многих поколений. В саду яркими россыпями пестрели цветы, на лугу, в зеленой дали, неспешно бродили коровы, пережевывая свою жвачку, а еще дальше, в каменных домиках, женщины начали разводить очаги, готовясь к возвращению мужей, и голубой дым мягкими кольцами устремился в неподвижное небо. Где-то вдали весело перекликалась детвора, вырвавшаяся из школы, а она…
В следующий миг до Молли донеслись какие-то звуки. Затем открылась дверь и на нижней площадке лестницы послышались чьи-то шаги. Он не мог уйти, не повидавшись с нею. Он никогда, никогда не поступил бы с нею так жестоко! Никогда не забыл бы о бедной маленькой Молли, сколь бы счастливым ни был сам. Нет! Вновь раздались шаги и голоса, вновь отворилась и закрылась дверь гостиной. Она опустила голову на руки, лежавшие на подоконнике, и заплакала. Она оказалась настолько недоверчивой, что позволила себе хотя бы на минуту предположить, что он может уйти, не простившись с нею; с той, которую так любила его мать и которую она называла именем его младшей умершей сестренки. Вспоминая нежную любовь к ней миссис Хэмли, она заплакала еще горше, поскольку та любовь исчезла с лица земли без следа. И вдруг дверь гостиной отворилась, кто-то стал подниматься по лестнице. Это были шаги Синтии. Молли поспешно вытерла глаза, выпрямилась и постаралась придать себе как можно более беззаботный вид. Это было все, на что у нее хватило времени, перед тем как Синтия, приостановившись перед запертой дверью, постучала. Получив ответ, она, не входя, крикнула:
– Молли! Мистер Роджер Хэмли здесь, и он хочет попрощаться с тобой перед отъездом.
После этого Синтия вновь спустилась вниз, словно стремясь именно в эту минуту любой ценой избежать tête-à-tête с Молли. Сделав над собой усилие и проглотив комок в горле, словно ребенок, готовящийся выпить горькое лекарство, Молли немедленно сошла вниз.
Роджер о чем-то горячо разговаривал с миссис Гибсон в эркере у окна, когда Молли вошла в комнату. Синтия стояла рядом и прислушивалась к их разговору, не принимая, однако, в нем участия. Она смотрела себе под ноги и даже не подняла глаз, когда Молли неуверенно приблизилась к ним.
– Я бы никогда не простил себе, если бы потребовал и получил от нее обещание, – говорил Роджер. – Она будет свободна вплоть до моего возвращения. Но надежда, слова, ее доброта и великодушие сделали меня счастливейшим из людей. Ох, Молли! – Он вдруг заметил ее присутствие и, повернувшись к ней, взял ее руку в свои. – Думаю, что вы давно уже догадались о моей тайне, не правда ли? Я даже подумывал о том, чтобы поговорить с вами перед отъездом и открыться вам. Но искушение оказалось слишком велико, и я признался Синтии в том, что люблю ее так сильно, что это невозможно передать словами. И она ответила… – Роджер перевел взгляд на Синтию, и в глазах его засветился неподдельный восторг, так что он даже позабыл о том, что оборвал себя на полуслове, разговаривая с Молли.
Синтия, похоже, не намеревалась повторять сказанное, но вместо нее это сделала ее мать.
– Моя дорогая славная девочка ценит вашу любовь, как никто другой. И, похоже, – сказала она, глядя на Роджера и Синтию с насмешливым лукавством, – теперь я знаю, в чем заключалась причина ее весеннего недомогания.
– Мама, – вдруг заявила Синтия, – ты же прекрасно понимаешь, что ничего такого не было. Прошу тебя, не надо выдумывать обо мне невесть что. Мы обручились с мистером Роджером Хэмли, и этого довольно.
– Довольно! Более чем довольно! – подхватил Роджер. – Я не приму ваше обещание. Я связан своим чувством, но вы свободны. Мне нравится быть связанным, это делает меня счастливым и умиротворенным, но в последующие два года много чего может случиться, и потому вы не должны связывать себя обещанием.
Синтия ответила не сразу. Она явно над чем-то раздумывала. Слово вновь взяла миссис Гибсон:
– Вы очень великодушны, в этом нет сомнения. Пожалуй, лучше и впрямь более не говорить об этом.
– Я бы предпочла вообще сохранить нашу помолвку в тайне, – заявила Синтия.
– Разумеется, любовь моя. Именно это я и собиралась сказать. Когда-то я знавала одну молодую леди, которая прослышала о смерти в Америке одного молодого человека, ее хорошего знакомого, и она тут же заявила, чтобы была с ним помолвлена. Она дошла до того, что стала носить вдовий траур. Но сведения о его кончине оказались преувеличенными, и он вернулся обратно, живой и здоровый, и заявил всем и каждому, что ни разу даже не вспоминал о ней. Так что она попала в очень неловкое положение. Посему такие вещи лучше хранить в тайне, пока не настанет подходящее время раскрыть их.
Но даже в этот момент Синтия не устояла перед соблазном и сказала:
– Мама, обещаю тебе, что не стану надевать траур, какие бы сообщения ни пришли о мистере Роджере Хэмли.
– Зовите меня просто Роджером! – трепетным шепотом вставил он.
– А вы все будете свидетелями того, что он обещал думать обо мне, если впоследствии он вдруг откажется от своих слов. Но при этом я хочу, чтобы все оставалось в тайне до его возвращения. И я уверена, что все вы будете так любезны, что пойдете мне навстречу. Пожалуйста, Роджер! Пожалуйста, Молли! Мама! Тебя это касается в первую очередь!
Когда она обращалась к нему таким тоном и с такой просьбой, Роджер был готов на все. Но он лишь молча сжал ее руку, давая понять, что она может на него рассчитывать. У Молли же возникло такое ощущение, будто она никогда не сможет назвать происходящее обычным делом. И потому за всех ответила миссис Гибсон:
– Мое дорогое дитя! Почему же «в первую очередь» относится ко мне? Чтобы уязвить меня? Ты же знаешь, что мне можно доверять ничуть не меньше, чем кому бы то ни было.
Маленькие часы на каминной полке отбили полчаса.
– Я должен идти! – с досадой воскликнул Роджер. – Я даже не подозревал, что уже так поздно. Я напишу вам из Парижа. Дилижанс вот-вот прибудет к «Георгу», и останавливается он там всего на пять минут. Дорогая Синтия… – Он взял ее за руку, но потом, словно искушение оказалось слишком уж велико, привлек ее к себе и поцеловал. – Помни, что ты свободна! – сказал он, разжимая объятия, и повернулся к миссис Гибсон.
– Если бы я полагала себя свободной, – заявила Синтия, на щеках которой расцвел румянец, но которая и сейчас была готова дать остроумный ответ, – если бы я считала себя свободной, то неужели ты думаешь, что я позволила бы так с собой обращаться?
Настал черед Молли, и прежняя братская нежность вновь вернулась в его взгляд, голос и манеры.
– Молли! Вы не забудете меня, я знаю. А я никогда не забуду ни вас, ни вашей доброты по отношению… к ней. – Голос у него дрогнул и сорвался, и стало очевидно, что ему лучше уйти.
Миссис Гибсон разразилась прощальной речью, на которую никто не обратил внимания. Синтия принялась машинально, пожалуй, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, поправлять цветы в вазе на столе, некий изъян в которых привлек ее внимание, по обыкновению, полное художественного вкуса. Молли же застыла на месте, в душе ее царила пустота. Она не испытывала ни радости, ни горести, ею овладело оцепенение. Вот она ощутила слабое прикосновение теплого рукопожатия. Девушка подняла глаза – до этого момента они были опущены долу, словно веки оказались слишком тяжелыми для них, – но место, на котором он только что стоял, опустело. Вот его быстрые шаги раздались на лестнице, открылась и захлопнулась входная дверь. Молли с быстротою молнии метнулась на чердак – в чулан, окно которого выходило вниз на улицу, где он должен был пройти. Оконная защелка оказалась тугой и неподатливой, Молли потянула за нее изо всех сил – она должна открыть окно и высунуть голову наружу, иначе последний шанс будет упущен безвозвратно.