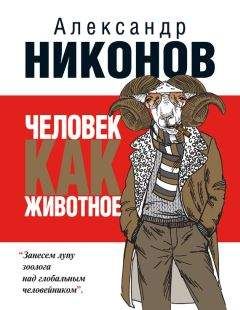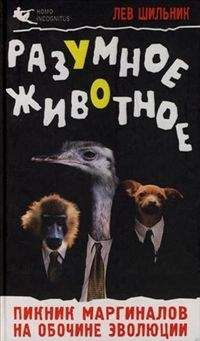Лилия Фонсека - Современная африканская новелла
— Кто такой? — грозно спросил молодой священник и затопал своими начищенными башмаками.
Сапожник вбил еще один гвоздь. Теперь уже всем стало ясно, что он чужак, никому неведомый и незваный. А в ту пору никто не мог пойти, куда захочет, или поселиться в другой деревне, например в нашей, не предъявив при этом удостоверения личности. Это было бы неслыханной дерзостью. Каждый обязан был иметь опознавательный знак и немедленно назвать своих родственников или хоть какое-то имя.
Священник был вне себя. Как посмел этот оборванец, этот наглец разбить палатку в самом центре его участка? Он, преподобный Канья, всем известный в селении молодой священник, сумеет призвать к порядку незваного гостя.
— Злой дух! — сказал он и удалился.
— Ковбой не стал бы с ним церемониться, — сказал «академик» и зашагал к сторожевой башне вслед за своим старшим братом.
Я стоял в полном удивлении. Сапожник заговорщически мне подмигнул и ткнул молотком вслед удалявшимся ногам братьев. Тропинка была здорово разбита, и те прыгали с кочки на кочку в своих начищенных башмаках. Я чуть удержался от смеха. Джимми улегся подле сапожника, будто его старый друг. Я глядел на них обоих в ласковых лучах солнца. Что-то в нем есть, в этом незнакомце, думал я, а священник и ковбой этого не понимают, для них он нарушитель границ, и только. Он опять на меня взглянул и что-то промычал. И тут я понял, что он немой.
Охранник явился незамедлительно — с полицейской дубинкой в руке, в отутюженных шортах, которые топорщились тугими складками. Он то и дело поглаживал одну-единственную нашивку на своем левом рукаве, так что сразу всем стало ясно, что она ему только что пожалована. На сапожника он смотрел зверем.
— Встать! — гаркнул он для начала. — Где твое удостоверение личности?
Сапожник вбил еще гвоздь.
— Эй ты! Не слышишь, что ли? — сказал преподобный Канья.
Еще один гвоздь. В ответ раздавался только мерный стук молотка. Где-то вдалеке прокукарекал запоздалый петух, и жители деревни растворили окошки своих домишек, приветствуя новый день. А здесь раздраженно шаркали три пары ног.
— Что-то здесь нечисто! — Это изрекает святой отец.
«Академик» в мгновение ока прочитывает еще одну страницу и с громким стуком захлопывает книгу.
В конце концов охранник заявляет:
— Пойду-ка я за вождем.
Дело осложняется.
— А что такое? — недоумевает святой отец, который надеялся, что охранник сам справится с нарушителем.
Сторожевой пост у нас был на самой окраине, за деревней. Строили его общими усилиями наших отцов и матерей, в принудительном порядке. Вокруг глубокий ров, а в нем колючая проволока и острые деревянные колья, чтобы проткнуть каждого мау-мау, который задумает сыграть злую шутку. А за рвом, на страх врагам, — разбитые бутылки, гвозди, кости, башмаки, ножи, велосипедные рамы, рулевые колеса, консервные банки. Здесь жил вождь и восемьдесят охранников — его развеселая свита. Сюда они таскали чужих жен и чужих кур. Ясно, поскольку им надлежало защищать нас, им надо было хорошо защититься самим. Только мау-мау почему-то считали, что не успеет стемнеть, как охранники и сами становятся курами и ничуть не уступают местной полиции, которая взяла за привычку удирать сломя голову, как только на нее нападут, предоставляя грязную работу солдатам Королевского африканского полка.
В одну из веселых ночей «террористы» забросали заградительный ров банками с горючим. Неприступный ров запылал, и конец бы тут и всей нашей охране, если бы на выручку не прибыли королевские солдаты. Двадцать охранников погибло, но вождь уцелел и впервые в жизни поднялся в воздух на правительственном вертолете.
Сопровождаемый преподобным Канья, он сбросил аккуратные красные листовочки и через рупор пообещал нам ввести расправу без суда, а молодой священник сказал: «Помолимся о душах погибших!»
Это было средь бела дня, и мы немножко успокоились, увидев, что вертолет полетел дальше обещать то же самое другим деревням, где, может быть, укрывались мятежники. Но не успел глас небесный затихнуть вдали, как снова вернулся и стал вдалбливать нам то, что мы частенько слышали из наземных источников. Мы стояли, обратив взоры к небесам, словно в молитве. Да мы и вправду молились, поскольку знали, что положение о наказании без суда уже представлялось на рассмотрение Ее Величества и было вполне реальной угрозой. Нам показалось, что, когда священник говорит: «Помолимся, братья мои», в это самое время наш вождь обозревает сверху окрестности, чтобы определить, у кого сколько скота. Во всяком случае, мой циник отец был абсолютно убежден, что так оно и было, потому что спустя неделю у нас пропало пятьдесят коров.
Днем охранники наводили на нас ужас. Нас, ребят, они стегали хлыстами и грозились сделать обрезание, а женщин то и дело гоняли на речку за водой. Мужчины должны были на деле доказать, почему они до сих пор еще не в лагере для интернированных, и под угрозой хлыста месили красную глину, возводя новые стены сторожевого поста. Всех нас подозревали в укрывательстве подозрительных лиц. В свою очередь мы сами подозревали друг друга в укрывательстве «террористов», стараясь обвинить в наших бедах всех на свете, кроме собственной семьи. Старые друзья при встрече только мычали да хмыкали, чтобы не сказать чего лишнего. Каждый думал лишь об одном: как бы ему не попасться в ловушку, и все старался так повернуть разговор, чтобы ему не отправиться в Маньяни строить нефтепровод. А разойдясь, каждый спешил предупредить своих детей, чтобы те не сболтнули чего лишнего ребятишкам бывшего друга.
И, только когда наши взоры обращались на чужака, все мы снова объединялись в едином благородном порыве садизма и торжествующего отмщения и вручали нарушителя границ вождю. А он нас даже никогда не поблагодарил за это. На том дело и кончалось: чужака сажали в тюрьму и таким образом убирали с глаз долой. Причина нашего единения исчезала, и мы снова разбредались по нашим отгороженным одна от другой хижинам, и может, только тогда, отряхнув пыль со своих ног, кто-то понимал, в каком грязном деле он только что участвовал. Привели человека «для дальнейшего выяснения», как будто сами его обо всем беспристрастно расспросили: привели только потому, что он не местный и среди наших домов нет номера его дома.
Так происходило и сейчас: святой отец и его ученый братец вернулись вместе с вождем.
— Моему другу начальнику Робинсону, — сказал друг окружного начальника Робинсона, — это дело не понравится.
— И мне тоже не нравится, — сказал священник. — Это мой личный участок номер десять.
Вождь приблизился к сапожнику.
— Вста-ать!
Удары молотка. И лай Джимми — значит, и он заодно с чужаком. Я, кажется, потерял мыло, но сейчас не до мыла. Еще один гулкий удар по колодке. Священник щелкает начищенными каблуками. «Академик» то кидается в лавку, где надо обслужить ранних покупателей, то застывает на пороге и заодно проглатывает еще одну главу ковбойской книжки. В конце концов сапожник оглядывается вокруг, останавливает взгляд на огромных башмачищах вождя и качает головой. Я тоже смотрю на башмаки вождя. Мы все смотрим на башмаки вождя. Друг окружного начальника Робинсона смущается, потом начинает злиться. Его башмачищи здорово потрепаны: подметка с внешней стороны отошла от верха, левый каблук стоптался до самого основания. Сапожник снова качает головой, осуждая столь неразумный и как бы кривобокий подход к дорогам жизни нашей. Вождь бросает взгляд вокруг и с важным видом поправляет шляпу, словно хочет уверить нас, что он сам знает, как ему ходить. Ровный звонкий постук молотка. И вдруг на спину сапожника обрушивается удар хлыста. Звук, который он издает, испугом рассекает мирное утро — то ли это крик униженного человека, то ли жалобный стон придушенного пса. Придя в себя, он швыряет в вождя молоток. А тот, спрятавшись за двумя охранниками, толкает их вперед и кричит: «Арестовать его! Арестовать!» Один из охранников прыгает вперед, чтобы арестовать сапожника, но тот выкручивает ему руку за спину и швыряет его на груду нечиненых башмаков. «Арестовать его! Арестовать!» Теперь очередь второго стражника. Но незваный старик, который, видно, не зря столько лет колотил молотком, похоже, озадачил их своей силой, и второй стражник в нерешительности. Раскинув руки, они скачут друг против друга — вправо-влево, вправо-влево, выжидая удобного момента.
До тех пор я считал, что, если так называемые взрослые разумные люди кидаются друг на друга, значит, на то есть серьезные причины, потому что драка — дело ясное, и тот, кого противник втопчет в грязь, должен пенять только на себя. Но сейчас что-то было не то. По традиции во всех фильмах (до того, как у нас ввели военное положение, нам привозили их дважды в году, и все наше селение ожидало этого события с большим нетерпением) Тарзан или Чарли Чаплин в конце концов одерживали победу, сколь значительно ни превосходил бы их противник численно. Так сказать, одной левой. Их противники (если это были противники Тарзана, они явно нуждались в туалетном мыле, а если Чаплина — все, как один, аморальные субъекты с нечистыми намерениями), можно сказать, гибли или были повергнуты еще до того, как начиналась схватка. Мы это знали наперед, и все же каждый раз после двух часов великолепных драк и жутких убийств награждали Тарзана громкими деревенскими аплодисментами, разочарованные лишь тем, что все-таки так мало убили черных дикарей. «Но это же фильм», — говорили мы.