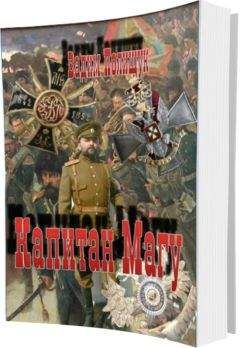Евгений Войскунский - Мир тесен
— Вот, — потрогал он свой тюрбан. — Теперь-то ничего. А то в глазах двоилось. — Он вздохнул. — Глупая голова в отпуск не пустила.
— Вон он сидит в холодке! — услыхали мы и посмотрели в сторону корпуса. Там прыгал матрос на костылях. — Главный! — крикнул он. — Гостей принимай!
Улыбаясь, шли к нам от дверей старший техник-лейтенант Малыхин и старшина второй статьи Саломыков. Поздоровались. Опять мне пришлось повторить свою историю; тут я, правда, укоротил ее до трех-четырех фраз. Не хотелось при Саломыкове распространяться. А он, чистенький, наглаженный, глядел на меня нахальными светлыми глазами, ласково улыбался — будто не вклинилась меж нами Катя Завязкина…
Я ведь все еще думал о ней. Ее кокетливые зеленые глазки снились по ночам. Трудно было смириться со своим поражением. Тем более в присутствии счастливого соперника. Я хотел уйти, но Малыхин не отпускал, все расспрашивал, как и что на катерах, а Саломыков сказал:
— Слыхал я, у вас, катерников, паек хороший. Масла ешь от пуза.
— Не только масло, — подтвердил я. — Еще и какава. Каждый день ее пьем. Какаву.
— Молодец лихой боец, — сказал Саломыков. — А мы в Дом Флота идем, там Эдита Утесова дает гастроль. Товарищ старштинант, скольки время? Не опоздаем? На Эдиту Утесову.
И на меня взглянул со значением: знай, мол, наших, не лыком шиты, Эдит Утесову ходим слушать.
— Не опоздаем, — сказал Малыхин. Коренастый, низкорослый, он тоже был выутюжен, при ордене Красной Звезды на кителе, сегодня не осыпанном пеплом. — Вот ты, Земсков, грамотный товарищ, а говоришь, как малограмотный: «какава».
— А как надо? — прикинулся я удивленным.
Он с подозрением посмотрел: не ломаю ли ваньку?
По его курносому лицу скользили пятна солнечного света, процеженного сквозь листву. Хмыкнув, он повернулся к Радченко:
— Жаль, Федя, не вовремя тебя поранило.
— А шо такое?
— Большую начинаем работу. Будем ставить шумопеленгаторную станцию. Подводную. От нее кабель проложим к пункту Н. — Тут Малыхин оглянулся: не слушают ли посторонние уши? — Большое дело, — повторил он. — Нам портовое судно дали, «Киллектор».
— Знаю «Киллектор», — сказал Радченко. — Который с краном на носу. Да, жалко. — Опять он вздохнул горестно. — Эх, не повезло мне…
* * *А мне повезло?
Еще как повезло. Давно уже мог рассыпаться в прах, сгинуть, сгнить на дне Финского залива — а вот, живой. Битый, стреляный, но живой. Чего ж я не весел? Почему же я не рад возвращению в Кронштадт?
Тьфу! К месту и не к месту лезут рифмы.
Я лежал на койке, лениво перелистывал взятый в госпитальной библиотеке томик Жуковского, скользил глазами по стройным лесенкам строк. Сладкие слезы, небесная красота, пламень вдохновенья… все выдумано, сплетено из высоких слов — а почему-то щемило в груди. Черт знает, магия какая-то.
Эсхин возвращался к Пенатам своим,
К брегам благовонным Алфея.
Он долго по свету за счастьем бродил —
Но счастье, как тень, убегало…
А другой старичок, Теон, сидел на месте, по свету не мотался, «в желаниях скромный, без пышных одежд», жил себе в своих Пенатах, в «смиренной хижине», и возлюбленная у него давно померла — а он-то и есть счастливец…
Но сердца нетленные блага: любовь
И сладость возвышенных мыслей —
Вот счастье; о друг мой, оно не мечта.
Эсхин, я любил и был счастлив…
Вольно вам, Василий Андреевич, прекраснодушничать… Посмотрели бы, как отражался пожар в мертвых белках Рябоконя… Думаете, он не искал счастья? Искал, Василий Андреевич. Правда, по свету не бродил, куда там, но и в Пенатах, я хочу сказать, в Чугуеве своем, он не успел его найти. Вот, может, на острове Лавенсари? Может, ухватил он там счастье за крылышки золотые? Может, недельки три было все же ему отпущено, и не зря он торопился Томочку, царицу Лавенсари, охмурить? Три недели, больше нам нельзя… времена не такие… война…
Впрочем, что это я? У вас, Василий Андреевич, свои были беды… тоже и война… и крепостничество, между прочим, отравляло жизнь лучшим людям времени… уж не знаю, как вам…
— Что? — спохватился я, вынырнув в госпитальной палате, в июле 1944 года. — Меня звал кто?
— Твое Земсков фамилие? — взывал со своей койки немолодой морской пехотинец, раненный в ногу при десанте на Пийсари. — Ты с торпедных катерей? Ну-тк почитай. — Протянул шуршащий газетный лист. — Тут про тебя пишут.
Я взял свежий номер «Красного Балтийского флота», посмотрел, куда пехотинец ткнул желтым от табака пальцем. Статейка называлась лихо: «Катер спасен!» — и была подписана каким-то А. Игнатьевым. Начиналась она так: «Умело и бесстрашно бьют врага на море балтийские катерники. В ночном бою дважды орденоносец лейтенант Борис Вьюгин повел свой катер в атаку на миноносец противника. Фрицы открыли ураганный огонь…» Я пробежал взглядом по столбцу, наткнулся на свою фамилию. «…С трудом передвигая обожженные кислотой ноги, радист старший краснофлотец Земсков выбрался наверх… Превозмогая жгучую боль, перевязал раненого командира катера… А мозг непрестанно сверлила мысль: связь! Связь должна работать…»
Да откуда он знает мои мысли, этот А. Игнатьев?!
Черт, только сейчас дошло: это же Сашка! Ну да, он же прискакал на Лаврентий, чтобы писать о нас, катерниках. Выйти в море замполит Сашке не разрешил, и осталось ему писать о наших подвигах с наших же слов по возвращении с моря. Но нас-то приволокли в Кронштадт… Наверно, Сашка вернулся с Лавенсари и на базе Литке имел разговор с боцманом Немировским.
Здорово он нас расписал — герои, да и только! «Ничто не могло сломить дух балтийцев… Мичман Немировский бесстрашно руководил борьбой за живучесть… Молодой краснофлотец Дедков из последних сил откачивал прибывающую воду… Свесившись в люк, Земсков настроил рацию…» Ну, Сашка! Ну, писатель!
В тот же день он заявился ко мне, длинный, взъерошенный, в белом халате поверх тесноватого кителя.
— Здорово, Борька! — гаркнул с порога. — Никак до тебя не доберусь, герой! Дел полно, надавали заданий, кручусь, как мышь в бакалее. — Он уселся ко мне на койку. — Ну, как твои белы ноженьки?
— Они красные, — сказал я, улыбаясь. — С трудом передвигаю. Превозмогаю жгучую боль.
— А, прочел? — заулыбался и он, но что-то было смущенное в его ухмылке. — Там еще похлеще стояло, я слов не жалел, да в редакции подсократили. А я тебе газету принес. На. Много я наврал?
— Зачем ты написал про мои сверлящие мысли? Никто не может знать, что я думаю.
— Как это — не может? Боцман все мысли насквозь видит, к твоему сведению!
— Хватит травить. — Мне неловко было перед соседями по палате. Словно я провинился в чем-то. — Тоже мне, чтец мыслей. Пойдем покурим.
Только мы с Сашкой вышли в коридор, как навстречу — Федя Радченко. Был он без повязки-тюрбана, коротко стриженный, только над ухом, на выбритой плеши, белела марля, прилепленная пластырем. Рассеянно поздоровался с Сашкой, сказал:
— А я к тебе, Борис. Беда у нас. Утром торпедировали «Киллектор». Малыхин погиб. И вся команда почти.
В конце июля на БТК прошли большие награждения. Семеро командиров получили звания Героев Советского Союза, многие — ордена и медали. Само соединение было награждено орденом Красного Знамени.
Не обошли и экипаж нашего катера. Вьюгин и Немировский получили по ордену Красного Знамени, Дурандин — Красную Звезду, а я — медаль Ушакова (и отмену приказа о списании на береговую базу — очень важное для меня обстоятельство). Наградой для Дедкова было снятие взыскания и оставление на бригаде.
Ему бы радоваться, Дедкову. Да он и радовался, конечно. И все же…
— Боря, — сказал он мне вечерком, когда мы вышли покурить у обреза, — а что дальше будет?
На Морском заводе залатали наш ТКА-93, и на днях его перевезли на грузовике сюда, на базу Литке.
— Что дальше? — Я процитировал «шапку» из сегодняшнего номера бригадной многотиражки: — «Рокот наших моторов слышат Таллин, Рига и Либава». Вот что дальше.
— Значит, мы еще будем в боях?
— Развоевался! — Я посмотрел на Дедкова.
Он вроде стал выше ростом, ага, голову вытащил из плеч. Да и плечи не такие острые, как раньше. Катерный харч, видно, шел на пользу.
— По огню соскучился, Миша?
— Не. — Дедков перегнал папиросу языком из одного угла рта в другой, точь-в-точь, как это делал Рябоконь. — Мне бы, — понизил он голос, — хоть одну медальку, Боря.
— Вон что… — усмехнулся я. — Не беспокойся, вояка. Еще хватит нам боев, чтоб всю могучую грудь увешать.
Чего мне особенно в те жаркие дни июля хотелось — чтоб Сашка написал статью о лейтенанте Варганове. В бригадной многотиражке уже появился очерк о том, как он прикрыл дымзавесой и спас наш катер, потерявший ход, а сам погиб с честью и славой. Я много думал о храбром лейтенанте. Прежде в тройке мушкетеров он мне казался умным и язвительным Арамисом, но теперь виделась в нем безрассудная отвага четвертого — д'Артаньяна. Да нет… что толку в подобных сравнениях… королевским мушкетерам и не снился грохот наших сражений…