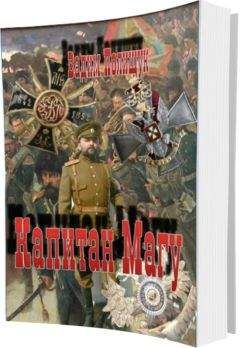Евгений Войскунский - Мир тесен
Чего мне особенно в те жаркие дни июля хотелось — чтоб Сашка написал статью о лейтенанте Варганове. В бригадной многотиражке уже появился очерк о том, как он прикрыл дымзавесой и спас наш катер, потерявший ход, а сам погиб с честью и славой. Я много думал о храбром лейтенанте. Прежде в тройке мушкетеров он мне казался умным и язвительным Арамисом, но теперь виделась в нем безрассудная отвага четвертого — д'Артаньяна. Да нет… что толку в подобных сравнениях… королевским мушкетерам и не снился грохот наших сражений…
А Варганову в его бакинском прошлом — снился?
Может, и снился. Разве не долетал до нашего детства орудийный гром из Университетского городка в Мадриде? Разве не ворвалось в нашу юность рычание танков на Халхин-Голе? Разве мы не слышали постоянно — в школе на уроках, на комсомольских собраниях, разве не читали в газетах о капиталистическом окружении? О том, что ни единой пяди земли не отдадим врагу? Мы пели: «Броня крепка и танки наши быстры…» Горланили: «Эй, комроты, даешь пулеметы!» Это были песни, привычные, как «Эх, картошка, объеденье, пионеров идеал». Именно привычные. Мы не задумывались над их смыслом, когда, скрестив ноги, сидели вокруг пионерских костров. Мы не выбирали себе ни песен, ни судьбы. Просто это была наша жизнь.
Марат Варганов, маленький дерзкий бакинец, одержимый морем, прожил жизнь как логичное продолжение нашего детства с его песнями и лозунгами. Иначе и быть не могло. Ему часто выпадало прикрывать дымзавесой катера, идущие в торпедную атаку. Но никто не приказывал Варганову прикрыть дымом наш гибнущий катер. Он просто не мог поступить иначе. И это было логичным завершением судьбы.
Я решил подговорить Сашку Игнатьева, борзописца этакого, написать о Варганове в «К.БФ».
Отпросился у боцмана Немировского (он замещал Вьюгина, еще не вышедшего из госпиталя) и по накаленной солнцем пыльной дороге пустился с базы Литке в славный город Кронштадт.
Редакция флотской газеты «Красный Балтийский флот» весной переехала сюда из Ленинграда и разместилась, вытеснив базовую газету «Огневой щит», в угловом помещении того восточного флигеля Итальянского дворца, где находился СНиС. Я свернул с Июльской в тупичок. Увидел разросшиеся каштаны и липы в садике перед метеостанцией. Возле шкафчиков стояла Катя Завязкина — снимала показания анемометра, термометра и чего там еще.
На ней было желтоватое платье с красными пуговицами. Я увидел тоненькую и белую, как свечка, шею, торчавшую из выреза платья. И остановился, почти задохнувшийся.
— Ой, Боря, — сказала Катя, уронив руку с записной книжкой. — Елки зеленые. Здравствуй!
— Привет.
Я подошел, устало передвигая ноги. На них только-только наросла новая кожа, и они были как бы немножко чужие.
— Ну, как ты? — сказал я. — Всё шарики запускаешь?
Она не ответила. Что-то изменилось в ней. Похудела, кажется. Зеленые глаза смотрели незнакомо, печально. Только русая челочка была прежняя.
— А я про тебя знаю, — объявила она. — Мама видела в госпитале. Тебе ноги пожгло в бою. Худой ты какой, Боря, — добавила, помолчав. — Что, мало кушаешь?
— Нет, кушаю много. И аппетит хороший.
Она улыбнулась слабой улыбкой, глаза увела в сторону, словно вспоминая что-то.
Жарко было. Я снял бескозырку с потемневшими золотыми буквами «Торпедные катера КБФ». Вытер платком потный лоб.
— А это что? — Она быстрым движением коснулась шрама на моем лбу.
— Так, — сказал я. — Неудачно клюнул носом.
— Ты знаешь, что со мной было?
Я знал только одно: Катя предпочла мне другого. Этого знания было вполне достаточно. Какое мне дело до нее… до них… Новая кожа хоть трудно, но нарастала взамен старой…
— Я сделала аборт.
Если бы по мне выпалили из пушки, и то я содрогнулся бы меньше, чем от этих трех слов, произнесенных очень спокойно, словно речь шла о сделанном маникюре. Я стоял, хлопая глаза* ми. А что тут скажешь?
Катя схватила меня за руку:
— Пойдем. Пройдемся.
Мы пошли по садику. Гомонили в листве воробьи, непонятно откуда взявшиеся после блокады. За стеной торчали надстройки кораблей, стоявших в доке Петра, и доносился оттуда стрекот пневматических молотков. Мы обогнули беседку, незнамо с какого века заваленную старой рухлядью, и тут Катя остановилась. Я посмотрел на нее — непролившиеся слезы стояли у нее в глазах.
— Боря, я тебе могу сказать… только тебе… Я ужасно ошиблась, Боря, ужасно!
А, ошиблась! Так тебе и надо, предательница, подумал я злорадно — и устыдился этой мысли. Ну, ошиблась девочка — я же не судья… Мне было жаль ее…
— Я ведь не хотела так… не гулящая же я какая-нибудь… Он обещал, что мы поженимся, ну, я согласилась…
— Катя, хватит! — взмолился я. — Режешь по живому…
Тут и слезы пролились. Всхлипывая, она пролепетала:
— Боречка, если б ты знал… сколько я о тебе думала…
— Ну, прошу тебя, не надо!
Я повернулся уходить. Душу жгли ее слова, ее плач.
— Нет, погоди! — вскричала она, опять схватив меня за руку. — Погоди, Боря! Я не все еще сказала. — В ее глазках теперь почудилось отчаяние загнанного зверька. — Он знаешь, что про тебя говорил? Он тебя ненавидит, Боря!
— Знаю.
— Ничего ты не знаешь! Ты же как ребенок… наивный… На тебя льют целый ушат, а ты не замечаешь… шуточки все тебе… блаженный прямо…
— Какой ушат? — хмуро спросил я.
Катя молчала, утирала платочком глаза.
— Ну, какой ушат он вылил? — повторил я.
— Ну и скажу! — вздернула она голову так, что челочка тряханулась. — Боря, он на тебя написал, что ты вредные разговоры вел в команде. Будто люди тонули, а им не послали помощь. Вот! Он сам говорил: я этому студентишке покажу, век будет помнить.
— Кому написал?
— «Кому, кому»! — сердито сказала Катя. — Я что, помнить должна? Начальству написал. А ты ходишь улыбаешься…
— Не хожу, — отрубил я. — И не улыбаюсь. Ладно, Катя. Пошел я. Прощай.
* * *Но все более замедлял шаг, приближаясь к подъезду редакции. Горечь и ярость, горечь и ярость душили меня. И я круто повернул вправо, быстро пошел в обход флигеля, где помещалась офицерская столовая, вдоль стены дока, потом налево и выскочил со стороны аккумуляторного сарая во двор СНиСа.
Я еще не знал, что скажу Саломыкову. Не знал, найду ли его. Знал только, что он спасся, когда команда погибла…
Да, я же не успел рассказать вам. Ну, коротко. Июльским утром «Киллектор» работал в семи-восьми километрах к северу от Шепелевского маяка. На борту этого портового судна, имеющего кран на носу, была подводно-кабельная команда во главе со старшим техником-лейтенантом Малыхиным. Готовились спустить под воду шумопеленгаторную станцию — базу приемников, способных уловить и дать пеленг на шум винтов любого корабля, приближающегося к главному фарватеру, к Кронштадту. Погода была тихая, солнечная, ничто не предвещало беду. Уже остропили станцию, уже затарахтел мотор крана и напряглись стропы, приподняв над палубой двухтонный груз, как вдруг мощно прогрохотало, сверкнуло — и разнесло «Киллектор» на куски. В следующую минуту на воде, поглотившей обломки и три десятка человеческих жизней, качались всего трое уцелевших. Погиб Малыхин, погиб мичман Жолобов, погибли почти вся подводно-кабельная команда и экипаж судна. Одним из уцелевших был Саломыков, оглушенный, но вцепившийся в обломок мачты.
Что это было? Плавучая мина? Вначале так и подумали, но потом явилась мысль о подводной лодке. Правда, спасшиеся не видели следа торпеды. Ведь обычно видна дорожка, бегущая к судну, — пузырьки газа от работающего двигателя торпеды. А тут — совершенно гладкое море. Подозрение усилилось, когда в Выборгском заливе подорвались два малых охотника — и опять никаких следов от торпед. В районе определенно действовала подлодка противника. Все это я узнал от Радченко, да и у нас на бригаде говорили о таинственной лодке, не жалевшей своих странных торпед даже на такие малые цели, как катера и портовое судно.
Постановку шумопеленгаторной станции (была снаряжена новая) поручили главстаршине Радченко и остатку подводно-кабельной команды. Ночью они вышли из Шепелевской бухты на барже, влекомой буксиром и охраняемой двумя малыми охотниками (чаще называемыми «морскими охотниками» или просто «мошками»). Смотрели в оба. Радченко благополучно опустил станцию на грунт, на тридцатиметровую глубину, поднял конец кабеля и вывел его на берег. К утру работа была окончена.
Забегая немного вперед, скажу вам, что подводную лодку все же удалось «ущучить». 30 июля в Выборгском заливе, у северного входа в пролив Бьёркезунд нес дозорную службу малый охотник МО-150. Вдруг сигнальщик обнаружил темную черточку, выросшую на залитой солнцем воде, и крикнул: «Перископ!» Охотник устремился в атаку на лодку, но ее командир, многоопытный и матерый, как видно, пират, опередил, успел выстрелить. Торпеда разнесла маленький деревянный кораблик в щепки. Гибель охотника увидели на тральщиках, работавших неподалеку, радировали в штаб. На линию дозора пришел другой малый охотник, МО-103. Вскоре ему просигналили белыми ракетами с катера-дымзавесчика, обеспечивавшего траление, и сообщили, что заметили тень подводной лодки, скользившую под водой, указали направление. Командир МО-103 старший лейтенант Коленке выследил подводную лодку, уходившую с мелководья на глубину, и не дал ей уйти — забросал сериями глубинных бомб. С разбомбленной лодки воздушным пузырем выбросило наверх шестерых немецких подводников, в том числе и их командира. Охотник подобрал их и доставил в Кронштадт. Командир лодки не стал скрывать: у него на борту было новейшее оружие — акустические самонаводящиеся торпеды, способные идти к цели, на шум винтов, не оставляя следа. Потопление подводной лодки U-250 было событием чрезвычайной важности. Под обстрелами с берега, под бомбежками (немцы изо всех сил пытались воспрепятствовать) водолазам, спасателям удалось поднять лодку с грунта и отбуксировать в Кронштадт. Новыми торпедами занялись специалисты, немецкий секрет был разгадан. Более того, с ним познакомили союзников, терпевших немалые потери в Атлантике от этих торпед.