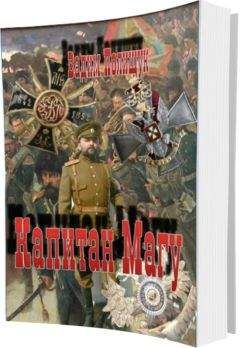Евгений Войскунский - Мир тесен
— Ясно, Земсков. Вряд ли тебя к нему пустят.
— Да он пробьется, — сказал Варганов, расхаживая в синих носках по комнате. Маленький, в сильно расклешенных брюках. — Он настырный. Пусти его, Борис.
— Настырный, — повторил Вьюгин. — Воспитатель он у нас.
— Товарищ лейтенант, если вы хотите иронизировать…
— Видал? — обратился Вьюгин к Варганову. — Еще и обижается.
— Знаешь что, Земсков? — остановился передо мной Варганов. — Ты, конечно, выделяешься. Но я тебе советую: не вылезай. Не надо вылезать.
— Да разве я…
— Это, понимаешь, вредно. Для здоровья, для службы. Мало ли что выпадает? Вот мне, например, всегда выпадает дымзавесу ставить, когда другие командиры атакуют. Ну и что? Я же не жалуюсь, что со мной несправедливо?
— Так и я не жалуюсь, товарищ лей…
— Ясно, ясно, Земсков, — сказал Вьюгин. — Можешь идти. Отпускаю до четырнадцати.
* * *Пробиться к разведчикам, действительно, оказалось не просто. Дежурный в штабе Островной базы даже и разговаривать не стал, отрезал:
— Ни о каких разведчиках не знаю.
Я потоптался возле штабного дома, покурил, раздумывая, как тут быть. Из раскрытого окна била короткими очередями пишущая машинка.
Начал накрапывать дождь. Небо потемнело, издали, из заоблачной выси, донеслось ворчание грома. Дробь пишмашинки оборвалась, из раскрытого окна высунулась машинистка — волной белокурых волос плеснуло на свежую синь гюйса — окатило меня, продрало, ошпарило…
— Погоди! — крикнул я, прежде чем она, взявшись обеими руками за оконные рамы, закрыла окно. — Здравствуй, Тома!
Царица Лавенсари скользнула по мне взглядом, словно голубым прожекторным лучом. Было совершенно непонятно, какими нормами продовольственного снабжения поддерживалась прекрасная полнота царицы, поразительная нежность ее белой кожи. Она красноречиво не ответила на мое приветствие: дескать, мало ли тут вас, кобелей, ходит.
— Тома, — лихорадочно заторопился я, — тебе привет от Кости. Я с его катера. Мы утром с моря пришли…
Чуть смягчилось надменно-недосягаемое выражение ее лица. Чуть приподнялись уголки вишневых губ.
— Знаю, — сказала Тома медленным низким голосом. — Костя придет сегодня?
— Непременно придет! — несло меня дальше. — Если, конечно, ночного не будет выхода. Тома, он просил привет передать! Он всю ночь думал о тебе…
— У тебя все? — спросила царица, снова берясь за рамы.
— Нет, постой… — Я понизил голос. — Мы ночью сняли двух людей с берега, понимаешь? Один из них мой старый друг… по СНиСу, понимаешь? Служили вместе… Мне надо его повидать, а я не знаю, где они…
Тома сделала ручкой — замолчи, мол, все уже ясно.
— Где живет помначштаба, знаешь? Нет? Ну, иди налево до того зеленого домика, а потом… — Она объяснила, а я старательно кивал, запоминая повороты. — Они только там могут быть, — завершила она разговор.
— Что передать Косте? — прокричал я в закрывающееся окно.
— Ничего не надо, — донесся истинно царский ответ.
Под отвесным мелким дождем я пошел по каменистой дорожке, обогнул воронку от авиабомбы, полную бурой воды, разыскал домишко на курьих ножках, где квартировал помначштаба, и, поднявшись по деревянной лестничке, постучал в дощатую дверь. В окне рядом с дверью появилась фигура в теплой нижней рубахе казенного образца. По соломенной шевелюре и впалым щекам я узнал напарника Виктора. Он сделал отчетливый жест: проходи, дескать, тут нечего тебе делать, — и исчез. Но ведь я «настырный». Постучал опять, настойчивей. В окне возник Виктор Плоский в тельняшке, всмотрелся в меня, скривился, будто увидел нечто безобразное, гидру многоголовую, и тоже исчез. Но вскоре дверь отворилась. Виктор, заслоняя плотной фигурой проем, спросил:
— Что тебе нужно?
— Ничего не нужно, — ответил я сердито и повернулся уходить.
— Ладно, зайди.
Он пропустил меня в комнатку. Бросились в глаза неубранные постели — одна на койке, другая на низеньком топчане, фляга и стаканы на столе, вспоротые консервные банки с торчащими вилками. Белобрысый напарник сидел на койке и недобро смотрел на меня, явно недоумевая и осуждая Виктора. У них у обоих был распаренный вид — верно, успели сходить в баньку.
— Ральф, — сказал Виктор высоким резковатым голосом, — это Борис Земсков. Мой бывший сослуживец по СНиСу. А ныне бесстрашный работник эфира.
Ральф сложил, скрестив пальцы, ладони у рта и, перекосив костлявое лицо, издал неприличный звук.
— Слушай, ты! — вскипел я, но Виктор обхватил меня длинной лапой, поволок к столу.
— Не обращай внимания, — посмеивался он. — Ральф у нас со странностями. Он любит людей, но скрывает это. Давай-ка хлебнем немного.
Режущий глоток спирта, смягчающий глоток воды. Ух, пошло по жилам тепло. Мы сидим за столом, тычем вилками в банку с тушенкой, и я, развязав язык, повествую старому другу Виктору о своих передрягах, об отчаянии, охватившем меня в первом походе на торпедном катере, и о том, что опять вляпался в неприятную историю…
У Виктора на лбу, от бровей до пучка темных волос, торчавшего между залысинами, пошли морщины.
— Усами обзавелся, — сказал он, — а ума не прибавилось. Эх ты, трюфлик.
«Трюфлик»… Прежде меня раздражало глупое прозвище, а теперь, поди ж ты, даже приятно…
— В чем же я виноват? — допытывался я.
— Я не прокурор.
— Но ты же мудрец! Ну, Виктор!
— Не приставай! — Он принялся цедить из стакана спирту как чай. — Ты знаешь, как устроены созвездия?
— Какие созвездия?
— Любые. Волопас, например. Не знаешь.
Я, между прочим, знал. Ведь альфа Волопаса — Арктур — это моя любимая звезда. Но он не дал мне ответить.
— А маршалов Наполеона знаешь?
— Даву, — начал я перечислять, — Ней, Мюрат, Бертье… Сульт…
— «Сульт»! — передразнил он. — Все всегда спотыкаются на Сульте. Никто никогда не упоминает Груши.
— Груши я знаю. Он опоздал под Ватерлоо. Из-за него Наполеон потерпел…
— Допустим. — Он отхлебнул из стакана. — Вот в этом все дело, трюфлик.
— В чем? — Как и прежде, я не поспевал за быстрыми переключениями Виктора Плоского. — Слушай, перестань говорить загадками. Ты не ребус, а я…
— А ты не троллейбус.
— Ладно. — Я поднялся, в голове немного шумело. — Ты тогда исчез, не сказавши слова… Ладно. Все-таки хорошо. Хоть случайно, а встретились…
— Почему случайно? — Он тоже поднялся со стаканом в руке. Без своих тараканьих усов он казался моложе, чем два года назад, но ранняя плешь портила вид. — Случайно ничего в жизни не происходит. Верно, Ральф?
Ральф, лежавший на койке, повернул соломенную голову.
— Слуцяйно, — сказал он с мягким акцентом, — полюцяются только дети.
— Понятно? — Виктор со смешком хлопнул меня по спине. — Когда будешь в Питере? — спросил он вдруг.
— Ну… — Я пожал плечами. — Наверно, после войны… не раньше…
— А раньше и не надо. Заходи ко мне домой. Старый Невский, сто двадцать четыре.
Со смутным чувством топал я из штабного поселка к себе на дивизион. Он, Виктор, словно поддразнивал меня. Не говоря уж об этом вздорном Ральфе. Словно по носу они меня щелкнули: не лезь. А я и не лезу в их секреты. Конечно, мне очень хотелось знать, что они делали в немецком тылу, в Эстонии, но ведь я не спрашивал ни о чем. Не надо было и мне пускаться в откровенности. Что им до моих переживаний? У каждого человека свои дела и заботы, свои приятности и неприятности. Людям нет дела до чужих забот. Душевных сил, что ли, не хватает…
Так ли это? — спрашивал я себя, идя по каменистой тропинке под ленивым дождиком. Или все же не так? И не находил ответа.
* * *После ужина я разлегся было в пустом кубрике на своем матрасе, книжку раскрыл (попались мне тут «Три толстяка» Юрия Олеши) и только успел прочесть чудную фразу: «Как раз к этому утру удивительно похорошела природа. Даже у одной старой девы, имевшей выразительную наружность козла, перестала болеть голова, нывшая у нее с детства», — как в кубрик сунулся кто-то и крикнул, что замполит срочно вызывает меня на волейбол.
Замполит Бухтояров был у нас главным — или, если угодно, флагманским — волейболистом. Чистота идеологии уживалась в нем с пылкой любовью к кожаному мячу. Вокруг него и возникла команда катерников, состав ее был переменный (в зависимости от того, какие катера в море, а какие нет). Нашим свирепым противником была сборная базовой команды. Ее возглавлял главстаршина-торпедист, который, говорили, был до войны в городе Борисоглебске чемпионом области (Воронежской) по прыжкам в высоту. Торпедист, надо признать, прыгал здорово и со страшным гиканьем топил мяч на нашу половину поля.
Играть мне что-то не хотелось. Голова, правда, не болела, как у той козлиной девы, а вот зуб ныл. Блокадная цинга, черт дери, все еще сидела у меня в зубах.