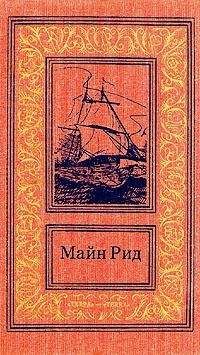Карел Птачник - Год рождения 1921
— Все мы ослы, — сказал Вейс, и огонек качнулся сверху вниз. — Пока мы этого не поймем, всё будем считать себя бравыми вояками. Покойной ночи, господа.
Огонек двинулся к двери. Вейс шел медленно и осторожно, сапоги глухо стучали по полу. Он открыл дверь, и его фигура смутно вырисовалась на фоне тускло освещенного коридора: всклокоченная голова, распахнутая шинель с поднятым воротником, ноги в больших сапогах.
На мгновение он остановился в дверях.
— Спите спокойно. Пусть вам снится победа. Хайль!
Дверь за ним закрылась, а Бент и Гиль долго глядели ему вслед. Потом Бент сказал:
— Завтра я с ним поговорю как следует.
— Надеюсь, вы подадите рапорт, — раздраженно пробурчал Гиль.
Бент не ответил. Он тихо лежал, закрыв глаза, и приятные воспоминания подползали к нему, как мурлыкающие котята. Но он еще раз с усилием вырвался из сладкой дремоты.
— Пошел бы ты посмотреть, куда он делся, — нерешительно произнес он, и это звучало вопросом, на который можно не отвечать.
После паузы Гиль осведомился:
— Это приказание, герр фельдфебель?
— Нет, нет, — быстро сказал Бент и повернулся на бок. — Я только думал… Нет, не нужно. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — отозвался Гиль и зевнул.
6
Первым его увидел Пепик, который, еще за час до побудки, сонный, побежал по коридору в клозет. Перепуганный, запыхавшийся, он ворвался в комнату и разбудил всех. Ребята в одном нижнем белье выбежали в коридор и, вздрагивая от холода и возбуждения, смотрели на самоубийцу. Мирек постучал в комнату немцев и доложил о случившемся. Первым вышел Гиль в шлепанцах и шинели, накинутой на плечи. Бент еще одевался, огорченно ругаясь.
Гиль с минуту смотрел на мертвеца, спрятав руки под шинелью и задрав голову. Потом он оглянулся, увидел Мирека, Гонзу, Пепика, Кованду, Карела и Олина, тут же спохватился и начал орать, загоняя их в комнату:
— Alles zurück![12]
И захлопнул за ними дверь.
В коридор вышел Бент. Он был в полной форме, с фуражкой в руках. Остановившись у лестницы, он поднял голову, испуганно сощурился и быстро опустил взгляд.
— Ekelhaft![13] — прошептал он и протер глаза, — ekelhaft…
Гиль побежал вверх по лестнице, громко шлепая домашними туфлями. Добравшись до четвертого этажа, он снял с крюка висевшую там стремянку и поспешил с ней вниз. На площадке второго этажа он расставил лесенку, неуклюже взобрался на нее и злобно выругался.
— Какой же я осел! Можно было обрезать веревку и с третьего этажа!
Он выпрямился на стремянке и оказался лицом к лицу с самоубийцей.
— Нож! — крикнул он и нагнулся за ножом, который ему подал фельдфебель. Это был маленький карманный ножик со штопором. Гиль открыл его и взял в правую руку, а левой повернул труп к себе и пристально посмотрел на него. Слабая лампочка в черном бумажном колпаке висела над самой головой самоубийцы, лицо его было искажено гримасой, кривой рот разинут, голова и тело неестественно вывернуты.
— Прыгнул сверху, — сказал Гиль Бенту. — Веревка чуть не перерезала ему горло. — И, обращаясь к самоубийце, произнес злобно: — Проклятый идиот!
Он ударил мертвеца сначала по левой, потом по правой щеке. Голова дернулась, и тело закачалось. Гиль взмахнул ножом, но веревка была прочная. Ефрейтору пришлось резануть еще два раза, наконец тело рухнуло на площадку, стукнув подковками сапог о каменный пол. Мертвец ткнулся головой в согнутые колени, как спрыгнувший человек, повалился на бок и навзничь, стукнулся головой об пол; скорченные ноги в сапогах медленно вытянулись.
Гиль слез со стремянки, поставил ее к стене, подошел к Вейсу, поднял его и быстро понес в комнату. По дороге у него соскочила туфля, он вернулся, не выпуская трупа из рук и отчаянно ругаясь, старался попасть ногой в туфлю.
В комнате он швырнул труп на постель Вейса.
— Так, — сказал он. — Кончено дело.
Он выбежал в коридор и пронзительно свистнул.
— Вставать! — орал он, бегая по коридору, и колотил ногой в двери. Одна незапертая дверь от удара распахнулась, и Гиль оказался лицом к лицу с Ковандой, Миреком, Олином, Пепиком и Карлом. Ефрейтор ворвался в комнату и остановился на пороге. По хмурым и неподвижным взглядам чешских парней он понял, что они видели все: как он возился с трупом, как лез на стремянку и резал веревку… И как бил мертвеца по щекам. Поняв это, Гиль на мгновение залился краской. Но только на мгновение. Не в его натуре было позволять кому-либо смутить себя. Никогда в жизни он не ощутил жалости, грусти, нежности или стыда. Такие чувства, наоборот, приводили его в ярость, побуждали к жестокостям. Он схватил за плечо стоявшего рядом Кованду и яростно затряс его.
— Ты, скотина, — злобно кричал он. — Ты распроклятая… скотина!
Кованда не спеша сбросил со своего плеча руку Гиля.
— А по-моему, скотина это ты, — сказал он по-чешски. — Ich nicht Hund, Hill.
Кованда был на полголовы выше ефрейтора, шире в плечах, тоньше в поясе, кулаки у него были покрупнее. Несмотря на свою ярость, Гиль сознавал это; кроме того, ему было ясно, что он перегнул, назвав мобилизованного чеха скотиной. Этого нельзя было делать ни при каких обстоятельствах, так как противоречило инструкциям, которые командир роты дал своим подчиненным. Гиль спохватился, отступил в сторону и, повелительно взмахнув рукой, закричал: — Alles, ’raus. Sauber machen, Flur, Aborte, Treppe, alles, los, los![14]
Олин сорвался с места.
— Пойдемте, прошу вас, — обратился он к товарищам. — Иначе будет худо. Зачем дразнить его, к чему?
Кованда язвительно усмехнулся.
— Смотри, не лопни от усердия, — сказал он Олину. — Веник от тебя не убежит.
Он засучил рукава и, нагнувшись за ведром, стоявшим за дверью, сказал Гонзику:
— Эх, опять я разозлился до чертиков! Жалко, жалко, что он на меня руку не поднял! Я бы его так треснул, что он бы покатился. И ничего бы мне за это не сделали. Не затем мы сюда приехали, чтобы всякая сволочь лупила нас.
В третьем этаже Гиль бегал от двери к двери и кричал:
— Los, los!
— Ну, пошли, — сказал Кованда. — Слушаться надо, хоть и до смерти неохота. Сбрызнем-ка площадку водой да протрем тряпкой!
Шесть человек взялись за работу. Гонзик мыл лестницу, Мирек протирал мокрой тряпкой коридор, Пепик умывалку, Олин уборную. Кованда принес ведро с водой и вместе с Гонзиком стал мыть лестничную площадку. Нагнувшись над ведром, Кованда оглянулся на Гиля и громко крикнул:
— Вейс!
Гиль был на третьем этаже. Услышав этот возглас, он примчался на второй этаж и остановился около чехов, прерывисто дыша и злобно вытаращив глаза. Нижняя челюсть у него отвисла, руками он вцепился в перила.
Кованда, стоя на коленях, медленными круговыми движениями вытирал пыль, Гонзик, наклонясь над ведром, выжимал тряпку, Мирек протирал пол шваброй, обмотанной старым мешком.
Ефрейтор Гиль, хрипя от злости, подскочил к Гонзику и лягнул ведро. Ведро перевернулось, вода окатила Гонзику брюки до колен и потоком хлынула с площадки в нижний этаж.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В сочельник грязь на улицах опять застыла от мороза, ветер уже с неделю словно железной метлой хлестал замерзшую голую землю, но сегодня небо медленно светлело и становилось более приветливым.
До рассвета оставалось несколько минут. Вот-вот красноватое солнце вылезет из-за линии Мажино, и поток света хлынет со склонов холма к каналу.
Ребята переодевались в деревянном бараке, теснясь около маленькой круглой печки, в которой весело потрескивали черные брикеты.
— Лопаются, как орехи, — снимая сапоги, сказал Кованда. — У нас дома, в сочельник, всегда щелкали орешки. Отец, бывало, высыпет на стол целую кучу. Нас, детей, было шестеро: четверо мальчишек и две девчонки. Мы, мальчишки, ставили в скорлупки маленькие свечки и пускали их плавать в умывальнике. Моя свечка всегда отплывала дальше всех, а потом, у самого края, переворачивалась и гасла. Мать, помню, очень расстраивалась и говорила потихоньку отцу: «Наш Пепик уедет далеко-далеко и не вернется домой». А я слышал ее слова и страшно радовался, что мне предстоит такой путь. Вот уж не думал я, не гадал, что увижу свет во время этой чертовой войны, да еще с такими сопляками, как вы.
— Гляди, гляди, дед, чтобы твоя свечечка не погасла в Германии! — усмехнулся Олин.
— Э-э, что же поделаешь, — рассудительно сказал Кованда. — У каждого она когда-нибудь догорит… А потом — какой я тебе дед, сопляк?.. После ужина мы, бывало, лили свинец в воду, резали яблоко и всякое такое. На ужин был карп, и каждый из нас получал сколько хотел, наедался вволю. На это отец всякий раз накапливал денег. «Без карпа, — говорил он, — сочельник не сочельник». Мать варила компот из сушеных яблок, делала салат, потом мы пили настоящий русский чай с конфетами. Батя мой был бедняк бедняком, целый год перебивался с хлеба на квас, но сочельник мы справляли не хуже, чем иные богачи. Рождественский пирог у нас пекли с изюмом, уха была — объедение, с икрой, с молокой и со всеми приправами, мать ставила ее на стол в большой миске…