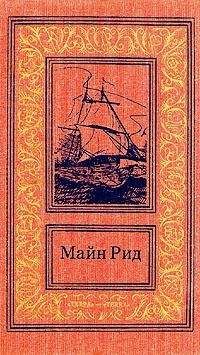Карел Птачник - Год рождения 1921
Гонзик радостно улыбнулся и громко засвистал популярный немецкий шлагр «Лили Марлен». Человек шел к изгороди, не прячась, так как барак скрывал его от взглядов часового на вышке. Только метрах в двух от изгороди человек опустился на колени, пополз и, распластавшись на земле, приподнял кирпич.
Гонзик, стоя у дверей, громко и озорно насвистывал. Человек за изгородью поднялся, согнувшись, перебежал к бараку и, уже исчезая в тени, поднял руку. Гонзик тотчас же перестал свистать.
Где-то за горизонтом невидимый месяц медленно выбирался на небо. На дворе было тихо, только часовой на вышке иногда топал ногами, чтобы согреться. Гонзик, прикуривая, еще с минуту стоял у дверей. Потом он отбросил окурок и вдруг услышал за спиной шорох, но не обернулся. Стоя на каменной ступеньке, он поднял голову и долго смотрел на светлеющее небо, потом повернулся и очутился лицом к лицу с Олином.
— Это ты? — сказал он негромко и взялся за ручку двери. — Сегодня отличная ночь.
Олин вынул руки из карманов.
— Отличная, — неуверенно согласился он. — Я решил еще подышать перед сном.
Гонзик улыбнулся.
— Жалко, что ночь такая темная. Даже не поглядишь в глаза друг другу.
Олин оперся спиной о дверь, которая приоткрылась.
— К темноте привыкаешь, — сказал он, — и скоро становится видно, все отлично видно.
Гонзик молча прошел мимо него и поднялся по лестнице. Олин шел за ним.
В комнате еще горел свет, по ребята уже спали. Гонза и Олин тихонько разделись и сложили одежду на полочках. Гонза разделся раньше, подошел к двери, взялся за выключатель и оглянулся на Олина. Тот возился с чем-то на своей койке. Потом он обернулся, В руке у него были четыре картофелины. Он молча положил их на стол.
Гонза, не говоря ни слова, подошел к столу, взял с полочки свой котелок и не спеша убрал в него картофелины. Котелок он поставил обратно и, прежде чем выключить свет, долго глядел в глаза Олину.
5
Фельдфебель Бент медленно раздевался. Усевшись на край чистой постели, он снял сапоги, мундир и брюки аккуратно повесил на спинку стула, на сиденье положил часы и носовой платок, сапоги поставил под кровать, носки повесил на перекладинку кровати и, стянув через голову рубашку, сложил ее на стуле.
Движения у него были неторопливые и обдуманные, каждая вещь ложилась на свое место.
Одеваться и раздеваться нельзя кое-как, наспех, — считал Бент. Привычку к порядку он приобрел не в армии, это был навык старого холостяка, который долгие годы жил один, полагаясь в доме только на себя.
Аккуратности требовало и его ремесло: Бент был торговцем, он унаследовал после отца бакалейную лавку в небольшом баварском городке. Лавка помещалась в старом бюргерском доме, на фронтоне которого стояла дата «1789». Только поэтому Генрих Бент знал, когда произошла французская революция. В чем был ее смысл, что она принесла людям, об этом он давно забыл, возясь с мешками муки и сахара, с ящиками мыла и красок, с бидонами керосина и всеми другими товарами, которыми он торговал на потребу местного населения.
В лавку вела застекленная дверь, с потолка свисали кнуты и щетки, головы чешского сахара и блестящие косы из Золингена, у стен в полутьме стояли пахучие мешки с голландским тмином, греческим изюмом, итальянскими лимонами. Все эти товары были расположены в том же порядке, что и тридцать лет назад, когда юный Генрих еще помогал торговать отцу. Сохранялся этот порядок и теперь, во время войны, когда Бент, уходя в армию, передал дело своей племяннице Эрике. Это была стройная, милая девушка с тяжелыми каштановыми косами за спиной, очень набожная и замкнутая. Пятнадцать лет назад она пришла в его дом с маленьким чемоданчиком в руках и, плача, передала последний привет от брата Генриха-Макса, который умер в Гамбурге. Эрика осталась в доме дяди, и ничто не изменилось в лавчонке на площади, жизнь размеренно тянулась в этом старом городе, над которым, на склонах Альп, долго не сходил снег. Эрика тихо ходила по дому, но всюду, и в доме и в лавке, сразу стало заметно, что ее маленькие руки взялись за дело. У Генриха стало больше досуга, чем он даже мечтал, он мог чаще запираться в кабинетике под самой крышей и заниматься своей коллекцией марок. С детских лет он увлекался филателией, отклеивая марки с писем, которые отец иногда получал от заграничных поставщиков. В душе Генриха прочно укоренилась любовь к этим маленьким разноцветным кусочкам бумаги, покрытым изображениями и надписями. Он мог целыми ночами сидеть над своей коллекцией, с лупой в руке, пинцетом и кисточкой, и медленно и неутомимо разбирать марки, рыться в них и мечтать.
Почтовая марка никогда не была для него материальной ценностью или филателистической уникой. Он воспринимал ее как средство связи между ним и далекими странами и мирами, как дорожку, по которой он умел мысленно выбраться из тихого городка, где, как и в других городах Баварии, в тридцатые годы начиналась непривычно бурная жизнь. В это время Генрих все чаще уединялся в своей мансарде, куда не долетал шум с площади, и, сидя за старым дубовым письменным столом, старался стряхнуть с себя тревогу и беспокойство, которые постепенно овладевали им.
Старинная дата на его доме теперь казалась ему предвестником иного переворота, более грандиозного и кровавого, чем французский; глашатаи этого переворота уже начинали свой поход по улицам немецких городов. От них не укрыться было и Генриху, они несли этот переворот на лезвиях своих кинжалов и в огне пылающих факелов. Они пришли к нему в мансарду, топая высокими сапогами по деревянной винтовой лестнице, и в их повадке было столько силы, столько юной решимости, а в глазах горела такая преданность делу, что Генрих не мог отказать им. Дрожащими руками он отпер старый стенной сейф и дал им деньги, укоризненно поглядев в глаза перепуганной Эрике, стоявшей за спиной пришельцев. Правда, на нее нельзя было сердиться и упрекать ее, он знал это.
Пришельцы появлялись у него еще не раз и никогда не уходили с пустыми руками, а Генрих, уже много позднее, стоя на праздничной трибуне у ратуши, рядом с новым бургомистром и местными партийными вожаками, чувствовал удовлетворение тем, что не остался в стороне и внес свою лепту в торжество силы, которая смогла потрясти весь мир.
Однако до самой войны он держался осторожно, уклоняясь — насколько можно было не в ущерб своему положению и доходам — от всяких пышных празднеств и публичных выступлений, и лишь изредка, когда это было выгодно, появлялся в общественных местах со свастикой в петлице или в нужный момент оказывал финансовую поддержку ненасытной партийной кассе. Был он тихий, скромный, замкнутый человек, сторонился окружающих и надеялся, что неумолимо надвигавшаяся буря минует его дом, не тронет пахучей полутемной лавки, в которой успешно хозяйничали многие поколения его рода.
Женщины Генриха не интересовали. Они никогда не занимали места в его жизни. Он всегда чувствовал себя старше своих лет, и привязанность к Эрике была единственным нежным чувством, вспыхнувшим в его сердце. В этой привязанности сначала был оттенок мужского желания и тяги к еще не познанному наслаждению, но Генрих сумел преодолеть в себе эту слабость, заменив ее отцовской нежностью и расположением.
Когда фельдфебель Бент вспоминал свой дом, лавку, коллекцию марок и Эрику, на его узких губах появлялась довольная, мечтательная улыбка, придававшая его лицу почти безвольное выражение; он стыдился этого. При посторонних Бент отрывался от своих раздумий, словно возвращаясь из далекой сказочной страны, и испуганно озирался.
Старший ефрейтор Вейс уже лежал на койке, закинув руки за голову, и, криво усмехаясь, глядел на Гиля. Тот стоял у двери, держа руку на выключателе, и терпеливо ждал, когда ляжет фельдфебель.
Бент лег, накрылся одеялом и кивнул.
— Можешь тушить, камарад.
Гиль почтительно пристукнул пятками в шлепанцах и на мгновение замер в позе «смирно». Вейс, глядя на него, презрительно нахмурился. «Шут ты», — сказал он. Гиль вздрогнул, злобно насупился и поспешно выключил свет. Пробираясь в темноте к своей койке, он сердито ворчал.
— Не знаю, что плохого в том, что мы проявляем уважение к старшему чином и стремимся в любой обстановке соблюдать дисциплину, — рассуждал он, ложась на койку, скрипнувшую под его тяжелым телом. — Без дисциплины, мейн либер, наша армия никогда не достигла бы таких успехов, особенно в России.
Вейс перестал усмехаться.
— А ты был в России? — спросил он, и что-то в его голосе заставило рассерженного ефрейтора отвечать спокойнее.
— Не был, — отозвался он неохотно. — Но другие были, так что гадать не приходится. А ты-то бывал там?
С минуту в темной комнате царило молчание, как будто Вейс не слышал вопроса. Потом раздался его голос, и он показался Бенту и Гилю голосом совершенно незнакомого человека.