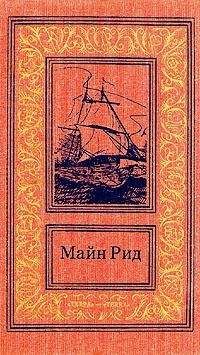Карел Птачник - Год рождения 1921

Обзор книги Карел Птачник - Год рождения 1921
Год рождения 1921
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Они уезжали в начале октября 1942 года.
Дождь лил как из ведра, крыши блестели, словно глаза в час разлуки, перрон напоминал разворошенный муравейник. Трудно было разобрать — кто уезжал и кто оставался, кто утешал, а кто требовал утешения.
Паровоз притащил к перрону длинную вереницу вагонов и пронзительно загудел. Этот гудок сразу разлучил парочки, оторвал провожающих от тех, кто уезжал. Люди торопливо расходились по вагонам, словно не могли дождаться минуты, когда поезд отойдет от серого мола перрона, где останутся родители, девушки, друзья, их грусть и растерянность. В воздухе мелькали чемоданы, узлы, свертки, шляпы, простоволосые головы, слышался смех и брань.
И вот поезд тронулся. Серая декорация вокзала медленно поплыла в сторону, постепенно открывая перекресток с виадуком, панораму промокшего города, башню храма, светлую ленточку реки, крест на перепутье, автомобиль на шоссе, лес… Капли дождя косо бороздили стекла закрытых окон.
Парни 1921 года рождения сидели в вагонах молча, у каждого в кармане казенная бумага на чешском и немецком языке, в которой Управление труда определило его судьбу на ближайшие дни, месяцы, а быть может, и годы.
Дело: тотальная мобилизация. Срок: конец войны. Место назначения: город Баумхольдер.
Где же он, этот Баумхольдер?
Найди-ка его на карте, где есть тысячи разных названий и еще не хватает тысяч других.
Настроение в вагоне было подавленное. Но вдруг какой-то шустрый черномазый парень вскочил с места, сверкнул глазами, откинул со лба черную прядь, взмахнул руками и запел упрямую, непокорную песню:
Время мчится, время мчится,
Время трудится на нас,
Гнет неволи прекратится,
И придет свободы час.
Остальные сидели смущенно и слушали с опаской. Некоторые даже прикрикнули на него:
— Не дури, не одни мы тут! Еще придет кто…
Но Гонзик словно не слышал. Волосы его сбились на лоб, глаза сияли, он широко развел руки, как будто хотел обнять весь мир, и отбивал ногами такт смелого марша.
…Гнет неволи прекратится,
И придет свободы час…
И вот уже рядом с ним стал еще один парень, потом третий, четвертый. Кругом захлопали в ладоши, раздались веселые возгласы, и песня взметнулась в вагоне, разрастаясь как пожар. Опасения, уныние и грусть вдруг исчезли куда-то…
Чешский лев встает из гроба,
Чешский люд к борьбе встает…
Окна были открыты, и на станциях, мимо которых проезжал транспорт, люди с удивлением и испугом глядели вслед этому крамольному поезду, потом срывали с себя шляпы и махали ему вслед.
…За свободу, за свободу
Кровь до капли отдает!
Нет, можно не бояться и не надо говорить шепотом! Среди братьев нет предателей, среди приговоренных нет доносчиков. Парни сразу почувствовали себя друзьями, словно много лет знали друг друга, хотя все были из разных мест. Но разве важно, кто ты, как тебя зовут, какая у тебя профессия, какого цвета у тебя пиджак, если у всех нас общая судьба?
Проехали Прагу; пассажиров в поезде становилось все больше и больше — после Пльзени их насчитывалось уже тысяча двести. Два паровоза тащили битком набитые вагоны — бесконечно длинный состав вез за границу молодое поколение побежденного народа.
Побежденного?!
Хеб. Нюрнберг. Поезд мчится, как камень, пущенный из стальной пращи, рельсы гудят, как натянутая тетива. Вот уже виден вдали славный старинный город Майнц, сады кругом; Рейн и Майн, освещенные алыми лучами заката, протягивают под мостами друг другу руки.
А вот и Баумхольдер. Название, которое так пугало всех, обрело плоть и кровь. Зигзаги шоссе, смоченного дождем и политого лунным светом, казармы справа, слева и впереди, сзади двадцать, тридцать, пятьдесят строений, гаражи, конюшни, спортплощадки, бараки, ворота, домики, караульные будки — огромный безжизненный город-казарма. За ним — покинутая деревня, пустые избы, собачьи будки, откуда не слышно лая, трубы, из которых не идет дым, крылечки, с которых не выглядывают любопытные… Там и сям видны фигуры в темных шинелях, прячущие в ладонях огоньки сигарет. Это молодые чехи. Они живут тут, в деревянных бараках, на сырой лужайке, и уже две недели ждут, что будет дальше. А поезда каждый день привозят новое пополнение из протектората. Лагерем распоряжаются немцы-военные.
Что-то будет?
На третий день после приезда — общий сбор на большом плацу посередине лагеря. Нестройные ряды, тысячи людей переминаются с ноги на ногу, стоя в грязи. Это чешская трудовая армия в Германии. Высокий офицер, взобравшись на ящик, разглагольствует о радости труда на благо отечества, о товарищеской спайке и победе справедливости. Потом солдаты проходят по рядам и сортируют, перестраивают эту многотысячную армию: в одну сторону каменщиков, в другую — плотников, слесари — вот сюда, маляры — туда, монтеры тоже отдельно и, наконец, крестьяне и студенты. Потом, переходя от группы к группе, солдаты берут десять каменщиков, десять кровельщиков, десять столяров и слесарей и комплектуют рабочие роты, в которых представлены все специальности, а в качестве подсобников приданы сельские парни и студенты. Ротам выдают зеленое рабочее и коричневое выходное обмундирование; лишняя штатская одежда под надзором солдат запакована и отправлена на родину. Затем роты погружают в поезда и отправляют во все края северной, западной и южной Германии.
Мирек попал в пятую роту батальона Л-13, отправленную в Саарбрюккен. Сначала она прошла строевое обучение без оружия, — молодых чехов приучали к немецкой муштровке, с утра до вечера гоняли их по плацу. Потом начались работы — восстановление полуразрушенных бомбежками домов. Через месяц из роты выделили небольшую команду, численностью в пятьдесят человек, и отправили на саарский канал. Команду возглавили фельдфебель Бент, старший ефрейтор Вейс и ефрейтор Гиль.
Обо всем этом хмуро вспоминал Мирек одним декабрьским днем, когда команда ехала на работу. Облокотись на столик у затемненного окна, Мирек закурил окурок, который нашелся за подкладкой шапки, и поглядел в другой конец вагона, где стоял ефрейтор Гиль. Тот поймал взгляд Мирека, еще больше сощурил свои узкие глазки под щетинистыми бровями и поджал крупные губы.
Поезд шел по холодному и неуютному краю. Под шестью вагонами убегала промерзшая, бесплодная земля, словно зябко ожидавшая рассвета. Громкий, однообразный стук колес, — казалось, кто-то безошибочно отсчитывает на железных счетах узенькие полоски горбатых пашен, извилистые ленточки тропинок, пересекающих железнодорожный путь, крупные заплаты полей под паром, одинокие безжизненные деревья, редкие стайки домов в местечках, у порога которых поезд делал минутную остановку. Нигде ни огонька, ни ярко освещенного окна, лишь труба паровоза иной раз дерзко бросает во тьму сноп алых искр…
На мобилизованных чехах была зеленая форменная одежда, на ногах высокие шнурованные сапоги, под этим рабочим обмундированием — свитеры, пиджаки, жилеты, шарфы, а поверх него — коричневые шинели, на головах коричневые солдатские пилотки, у пояса жестяные походные котелки.
В вагоне было тепло. Парни расстегнули свои шинели, а рукавицы сунули в карманы. Кое-кто дремал, приткнувшись к деревянной стенке вагона, другие о чем-то раздумывали, опершись руками о колени. Пятьдесят человек.
Кованда был единственным пожилым мужчиной среди этих юношей. Крепкий, плечистый, словно вытесанный из твердого сучковатого бука, с крутым подбородком, заросшим реденькой щетиной, он сидел прямо, закрыв глаза и сложив на коленях большие натруженные руки. Иногда он вдруг начинал храпеть, но тотчас просыпался и, щурясь, оглядывал вагон, всякий раз задерживаясь взглядом на Пепике, который лежал у его ног, потом снова впадал в дремоту, и на его твердых строгих губах появлялась тень улыбки.
Пепик спал на полу, в проходе; он расположился со всеми удобствами, — лежал на спине, а руки засунул в карманы шинели; коричневая пилотка сползла с его прямых, светлых волос. Очки без оправы, их блестящие стекла придавали его сонному лицу строгое и сосредоточенное выражение.
— На скамейке мне не выспаться, — оправдывался Пепик, всякий раз ложась в проходе и поднимая воротник шинели, чтобы не измазать волосы о грязный пол. — А вздремнуть полчасика — знаете, как полезно? Ребята, я бы спал и спал, так меня заездила эта каторжная работа. Эх, проспать бы все это подлое время, а проснуться, когда уже…
— Когда в небе сама собой расцветет радуга мира? — усмехнулся Гонзик. — То-то было бы хорошо и удобно! Но так ты конца войны не дождешься.