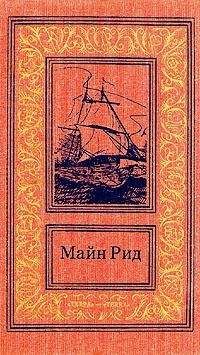Карел Птачник - Год рождения 1921
Подбежав к девушкам, Бартлау сбил обеих беглянок с ног и стал избивать их.
Мирек напряженно всматривался в этот мечущийся клубок тел. Вдруг он вскочил и, отбросив лопату, схватился за кирку. Карел еле удержал его за плечо.
— Не дури! — заорал он, в упор глядя на товарища. — Чего ты этим добьешься! Ничего! Полезай обратно.
Мирек стиснул зубы и озлобленно поглядел на Карела, потом пальцы его разжались, и кирка шмякнулась в грязь. Он с ожесточением сунул руки в карманы и спустился на дно канала. Карел медленно последовал за ним.
— Не раскисай, как баба, — сказал Карел. — Постарайся рассуждать здраво. Пошел бы ты на Бартлау с киркой — ну и что? Тебя же пристукнут, как мышонка. Вчера я ходил к архитектору Рамке, — ты видел, — он приехал — жаловаться на суп, который нам дают к обеду. Ведь это просто горячая вода, и в ней плавает недоваренная ботва. И знаешь, что он сказал? Мы были в будке одни, вот он и говорите «Вы, чехи, — свора наглых скотов, но мы с вас живо собьем спесь. Чехов я хорошо знаю, я учился в техноложке в Брно и ездил в Карловы Вары. Жрать вы будете то, что вам нальют в корыто, а сейчас проваливай, пока я не вынул пистолет. Ежели я тебя пристрелю, меня за это наградят железным крестом». И вытолкал меня за дверь.
Мирек перестал работать и отер лоб.
— Немцы — не люди! — сказал он и сплюнул в грязь.
— Такие же люди, как мы, — возразил Карел, обчищая лопату деревянным валиком, взятым у Кованды. — Но из них воспитали живодеров.
Эту фразу услышал пробиравшийся мимо Пепик.
— Не сваливайте все на воспитание, ребята, вспомните первую мировую войну. Вспомните, что немцы творили тогда в Бельгии и Голландии, а в тысяча восемьсот семидесятом году во Франции. Сейчас они то же самое творят в России. Немцы не меняются, это у них в крови.
— Вот и я так говорю! — глухо произнес Мирек. — Истребить эту нацию, истребить всех до единого, и будет спокойно житься всем народам. Наступит мир на вечные времена.
Гонзик слегка улыбнулся.
— Почему ты думаешь, что немцы, хуже нас или французов?
Мирек рассердился:
— Ну, так объясни мне…
— Карел тебе уже объяснил.
— Я их не осуждаю за это, — вмешался Олин. — Ведь идет война, и они защищаются. После первой мировой войны у них отняли колонии. Их святое право — забрать эти колонии обратно.
Карел внимательно поглядел на Олина.
— Жаль, пожалуй, держать тебя здесь, на канале, — сказал он. — Ты бы мог сидеть в Куратории для молодежи[6] и перевоспитывать чешский народ и его детишек. Или тебя могли бы назначить главарем «Влайки»[7].
Олин покраснел от смущения.
— Ослы, — отрезал он. — Мелете тут ерунду, а толку от вас чуть.
— Жестокие и бездушные люди найдутся повсюду, есть они и среди нас, это факт, — согласился Гонзик. — Среди немцев их сейчас больше, чем среди других народов, и это вина тех, кто правит райхом. Но и в Германии тоже хватает честных и справедливых людей.
— Рассказывай сказки! — усмехнулся Мирек. — Где они? Покажи-ка мне хоть одного.
— Среди простых людей их немало. Среди рабочих.
— Например, Бартлау?
— Бартлау — десятник. Вероятно, и он прежде был рабочим, но наверняка уже тогда рвался в главари. И добился своего: может сейчас орать на немцев, на чехов и избивать украинцев. Не-ет, настоящий рабочий не поступил бы так, он никогда бы так не изменился. Рабочий не меняет убеждения, как перчатки, потому что он чертовски недоверчив. Таким его сделала эта скверная жизнь. Ему не нужна война, потому что в ней можно потерять жизнь. Рабочий хочет, чтобы у него было что есть, чтобы ему не мешали жить, не напяливали на него солдатский мундир и не гнали на бойню.
Олин насмешливо улыбался. Это был рослый, красивый парень, с несколько самодовольным лицом и жесткой складкой вокруг женственного рта, выдававшей склонность властвовать, выдвигаться во что бы то ни стало.
— Слышал я уже такие разговоры, — отмахнулся он. — У нас в городе один оратор трепался на этот счет на первомайском митинге. Все болтал о труде и справедливом устройстве общества, пока его не стащили с трибуны и не вздули как следует. Может, и ты был коммунистом?
Гонзик выпрямился и бесстрашно взглянул в глаза Олину: «А что, если и был?»
Бартлау, гнавший по берегу плачущих украинок, заметил, что группа на дне канала не работает, и закричал на Гиля — куда, дескать, смотришь! Тот, отбросив сигарету, вытянулся перед десятником и во весь голос заорал на чехов.
— Тоже умник! — заметил усталый Пепик и грустно усмехнулся. — Орет, что мы Arschlöcher[8]. Кто же тогда он сам, ежели командир роты торжественно провозгласил, что мы, чехи, по культурному уровню не ниже немцев?
— Попробуй напомни об этом Бартлау или Рамке! — предложил Гонзик. — И долго вы еще будете верить всяким побасенкам, которыми нацисты стараются приманить нас?
Пепик от усталости еле держался на ногах.
— Который час? — то и дело справлялся он у Кованды. — Еще нет двенадцати? А что, если я от слабости свалюсь в грязь? — спрашивал он в отчаянии.
— Наверно, Бартлау втопчет тебя туда еще глубже. А мне придется трахнуть его киркой по башке, — отозвался Кованда. — Уж лучше потерпи полчасика или сбегай еще раз до ветру.
Перед полуднем выглянуло солнце. С утра грязь на дорогах была твердая и светлая, она хрустела под сапогами, как осколки бритвенных лезвий. Но к полудню уже так потеплело, что большинство рабочих сняли куртки и работали в одних рубашках. Солнце жарило с низкого голубого неба, грязь на берегах канала размякла. Кругом на фоне ясного голубого небосвода четко вырисовывались бронированные доты и ходы сообщения линии Мажино.
На участке девятого километра работало свыше двухсот украинских парней и девушек, в большинстве не старше шестнадцати лет, сотня украинцев постарше, пятьдесят чехов, тридцать французов и полсотни немецких десятников и надсмотрщиков. Французы были в основном монтажники и механики, они обслуживали землечерпалки и краны. Косматый, маленький, вечно раздраженный Марсель то и дело костил немцев на родном языке; он водил паровоз, другие французы работали шоферами. Участок жужжал как улей, люди сновали туда и сюда, грузили и перевозили песок, таскали мешки с цементом, шпалы, рельсы, бетонировали дно и стенки канала, разравнивали ил, рубили деревья, приводили в порядок берега и дорожки, качали воду. Та же картина повторялась на одиннадцатом, десятом и седьмом километрах.
В полдень десять украинцев прыгнули в машину и уехали в деревню. Примерно через час они вернулись и поставили перед будкой котлы с обедом. Бартлау взглянул на часы, сунул в свои моржовые усы свисток и пронзительно засвистел.
Полчаса на обед! Усталые ребята вылезли на берег, Кованда помог Пепику.
— Пойдем, неженка, — добродушно сказал он. — Получишь литр горячей воды и горсть ботвы. Подкрепишь свои силенки.
Перед будкой стоял тридцатилитровый котел, закрытый крышкой. Первым у котла оказался Мирек. Он приподнял крышку и жадно втянул пар.
— Ура, — торжествующе возгласил он, — турнепс — национальное немецкое блюдо для пленных и тотально мобилизованных. Кормовая свекла для людей и для скота. Покорнейше прошу стать в очередь, начинаем раздачу!
Ребята подставляли котелки, и Мирек наполнял их, помешивая в котле поварешкой. Чехи расселись на груде досок около будки, вылавливали ложками из котелков желтые кусочки турнепса и заедали их хлебом. Мирек набрал себе порцию из котла последним, сел на скамейку и принялся за еду. Хлеба у него не было: хлебный паек выдавали по вечерам вместе с порцией маргарина или свекольным повидлом. Мирек обычно съедал его в один присест, еще за ужином. Он был одним из главных обжор в роте. Желудок он считал важнейшим органом. «Что бы делала голова, не будь при ней брюха?» — говаривал он. Картошку Мирек проглатывал вместе с шелухой, заявляя, что ему жаль каждой крошки, которая остается на шелухе. Это был плечистый парень с крепкими руками драчуна. До тотальной мобилизации он работал столяром-мебельщиком, любил хорошо сработанные, добротные вещи; гладко отполированные поверхности, хорошо пригнанные грани и очень заботился о своей внешности. «Надо влиять на немчуру и нашим внешним видом, — говорил он. — Пусть видят, что мы лучше их».
В казармах он неутомимо стирал свою одежду, мылся, закалялся. И спал. Едва выдастся свободная минутка, Мирек уже на койке. «Сон укрепляет тело, — говорил он. — Кто спит, тот уже обедает. А если ты сверх того еще и в самом деле пообедал, сон поможет пищеварению».
Он не задумывался ни над своим будущим, ни над будущим человечества. У него не было жизненного опыта, необходимого для того, чтобы сложилось собственное мнение о событиях, в вихре которых очутился этот парень. Он упростил все проблемы войны, нужды, несправедливости и угнетения и убедил себя, что во всем виноваты немцы. К ним он испытывал безмерную ненависть.