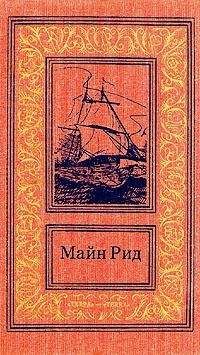Карел Птачник - Год рождения 1921
На холмах со всех сторон тянулись полосы противотанковых укреплений, рядами торчали белые бетонные надолбы, похожие на хребет чудовищного змея; из земли, как ядовитые грибы, выглядывали круглые головки дотов; обширные площадки из стали и железобетона, размалеванные в темно-серые маскировочные тона, все равно были хорошо видны. Искусственные лощины и насыпи из земли и бетона сменялись крутыми стенами валов, крепостей и бункеров, вся местность была словно прошита проволочными заграждениями.
Колокола звучно вызванивали в чистом полуденном воздухе. Чехи поднялись по широким церковным ступеням. Немытые, в грязных свитерах и куртках, грубые и нескладные, они направились прямо к главному алтарю и к громадным яслям, занимавшим целый притвор.
Мимо алтаря прошел кюре, взглянул на группу парней, единственных посетителей в такой неурочный час, и, видимо пожалев их, зажег все свечи в этом Вифлееме — и звезды на дырявом «небе», и комету, и огонек у яслей с младенцем.
Когда чехи спускались по церковной лестнице, Кованда долго надевал шапку и прочувственно откашливался.
— Никогда в жизни я не был верующим, — заговорил он, — но признаюсь, иной раз, как одолеет тебя тоска, зайдешь в церковь, глянешь ввысь на всю эту красоту на стенах… и полегчает на душе.
Да, заковыристая штука — эта самая христианская вера. Кто знает, сколько в ней правды. Никто. Вот потому у всякого в запасе есть свой бог, а может, и черт. Всю жизнь человек о нем не думает, а как придется туго, спохватится и вспомнит о царствии небесном. А есть оно или нет, бес его знает. Другой человек всю жизнь в этом разобраться не может и, чтобы не прогадать, клюет, как говорится, на бога. Терять-то нечего, а попытка не пытка.
Эда Конечный рассердился:
— Вздумал тоже богохульствовать в такой день! Никто не спрашивает твоего мнения. Какое тебе дело, верят другие или нет?
— Видишь ли, — рассудительно сказал Кованда, — я твоего боженьку не трогаю и богохульствовать не собираюсь, кто его знает, может бог все-таки есть, сидит где-нибудь да подслушивает. Откуда я знал, что ты верующий? Но я на тебя не в обиде. Так что и ты не ершись, миленький.
Но Эда не унимался.
— Что бы стало с людьми, — ворчал он, — если бы они ни во что не верили. Все бы стали грабителями и убийцами.
— Вот интересно, верят немцы в бога, как ты, Эда? — вмешался Карел.
Ребята, споря, шли по кривой улочке к вокзалу. Сегодня в виде исключения им было позволено не ходить в строю, а запросто прогуляться по маленькому лотарингскому селению, которое они покидали.
По неровной булыжной мостовой они подошли к перекрестку. В этот момент из низкого облупленного домика вышел рослый плечистый человек. Он припадал на левую ногу, которая, видимо, не сгибалась в колене. Стоя спиной к приближавшимся чехам, он запер домик, потом пошарил в карманах, ища спички, обернулся и, увидев пришельцев, замер, опершись спиной о дверь.
Ребята медленно приблизились и остановились в двух шагах от него. Мирек подошел вплотную и вынул руки из карманов. Кулаки у него были сжаты, и вены на шее начали наливаться кровью. Но он не успел нанести удар, Гонзик схватил его за руки и в упор поглядел ему в глаза. Мирек не выдержал этого взгляда, отвернулся, сунул руки, в карманы и отошел в сторону. Гонзик остался лицом к лицу с Бартлау, за его спиной выжидательно молчали товарищи.
— Auf Wiedersehen, Herr Bartlau, — медленно проговорил Гонзик и после напряженной паузы добавил: — Frohe Weihnachten![15]
Десятник выпрямился, упершись затылком и ладонями о дверь. Лицо его было бледно, губы плотно сжаты, кончики усов как-то поникли. Бартлау снова охватил панический страх, он беспокойно переводил взгляд с одного лица на другое.
— Danke, — глухо произнес он, уставился в землю, слегка наклонив голову, и спрятал руки за спину. — Gleichfalls[16], — добавил он и откашлялся, словно готовясь произнести длинную речь, но не вымолвил больше ни слова и не поднял глаз.
Ребята медленно тронулись по улице к вокзалу. Они шли молча и хмуро, не вынимая рук из карманов, задумчиво склонив головы, словно внутренний голос твердил им «вернитесь». Но они пересилили себя. Только в конце улицы, где дорога круто сворачивала влево, в сторону от железнодорожного пути, остановились и оглянулись.
Десятник все еще стоял перед низким облупленным домиком, опираясь спиной о запертую дверь и не поднимая взгляда.
2
Рабочую роту расквартировали на окраине Саарбрюккена, в большой казарме, окруженной высокой кирпичной стеной и аллеей могучих каштанов. Комнаты, в которых разместили солдат, были похожи одна на другую, как две капли воды: четыре двухэтажные койки, четыре шкафчика, один стол, восемь стульев, большой кофейник, деревянный поднос для еды, совок, веник, печка, ведро для угля, мусорная корзина, белые стены, пол, выкрашенный масляной краской, над столом — лампочка под абажуром, двустворчатое окно со светомаскировкой — вот, собственно, и все. Коридоры с каменным полом вели к узким каменным лестничкам. На крыше каждого дома торчало смешное деревянное гнездо зенитного пулемета.
Команда фельдфебеля Бента прибыла в казарму в четыре часа дня, в самый сочельник. На плацу выстроилась вся рота, перед ней десять солдат во главе с капитаном Карлом Кизером.
— Гляньте, как хорохорится! — усмехнулся Кованда, маршировавший вместе с Миреком и Гонзиком в первой шеренге.
Капитан был низкорослый человечек с длинными руками и ногами горбуна, детским девически миловидным лицом и быстрыми живыми глазами. Горб он умело прятал под безупречно сшитым и подбитым ватой офицерским мундиром, на боку у капитана болтался серебряный кортик. Рядом с рослым рыжим фельдфебелем Нитрибитом, которому он был едва по плечо, капитан выглядел школьником.
— Хайль, камараден! — гаркнул Кизер, когда команда остановилась перед строем и фельдфебель Бент отрапортовал.
— Хайль, хайль, — нестройно ответила команда, и капитан нервно передернул плечами.
— Вот мы и дома, — радовался Мирек, развалившись на койке и блаженно посапывая. — Вечером, за общим ужином, всем будут выданы рождественские подарки. Я разведал у повара: мы получим картофельный салат, свиной шницель и по бутылке красного вина на брата.
Кованда, сидевший на нижней койке, удивленно свистнул.
— Если ты нас не разыгрываешь, это здорово! А я-то думал, что в Германии совсем уже перевелась свинина. Выходит, все-таки есть. И большой дадут шницель?
— Каждый по восемьдесят граммов. Они уже нарезаны, жарить их начнут перед самым ужином, чтоб не остыли. Я дал Франтине сигару, и он обещал выбрать мне шницель пожирнее. Эх, черт, — огорчился Мирек, — и почему только я не попросился работать на кухню. Вот жизнь! Как подумаю, что Франтина может сожрать два или три шницеля, прямо хоть плачь с досады. Или, к примеру, наложить себе теплой картошки, полить ее погуще жиром, посолить и…
— Опять ты за свое! — рассердился Кованда. — Вот как съезжу тебя сапогом по башке. И зачем только ты нам портишь жизнь?
— Не воображай, пожалуйста, что Франтине и Йозке так уж привольно живется на кухне, — добавил после паузы Пепик. — Ефрейтор Гюбнер не спускает с них глаз. Каждый кусок мяса у него на счету. Там не украдешь и жиринки из супа.
— Ну, этого ты мне не рассказывай! — сердито сказал Мирек. — Не такой я дурак, чтобы они меня укараулили. Ручаюсь, я бы стянул у него этот шницель под самым носом.
— Шницели готовят раз в год, — заметил Кованда, укладываясь на койку.
— Для нас — да. А для начальства почаще. Из наших же пайков! А вчера, говорят, у них была жареная рыба. Вот жулье! — ругался Карел.
Мирек не откликнулся, он уже спал.
Ему снилось, что он сидит дома, у мамы. На плите аппетитно потрескивают шкварки. Мать, поворачивая на противне золотистого жареного карпа, стучат вилкой по кастрюле, в которой варится уха из головизны…
— Тебе я дам самый лучший кусочек, Мира, — говорит мать, утирая передником слезы. — Ты его заслужил, мальчик. Намаялся за эти два месяца? И не говори, что ты не голоден. Я-то знаю, что ты живешь впроголодь, хоть и не пишешь мне об этом.
— Ну что ты, разве я когда-нибудь обманывал тебя, мама?
— Не обманывал, Мира, ты всегда был примерным сыном. Только остался ли ты таким же? Не испортила тебя эта Германия?
— Эх, мама, огонь не обожжется в печи.
— Не обожжется, а погаснуть может, — возражает мать и украдкой утирает слезу, потому что в кухню входит отец.
Отец… В памяти сына он всегда останется силачом, хотя силы его убывали, по мере того как прибавлялось седины на висках. А ведь еще совсем недавно — сколько с тех пор прошло лет? — отец сажал Мирека на плечи и поднимался с ним по приставной лесенке через слуховое окно на чердак, откуда вся местность была видна как на ладони. Сейчас это было бы ему уже не под силу.