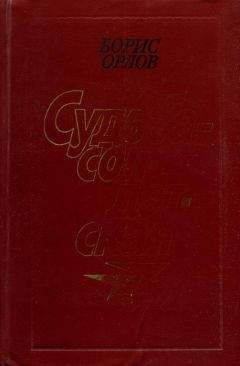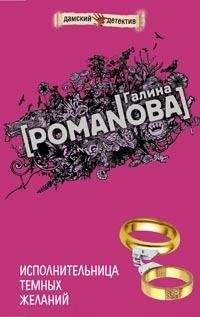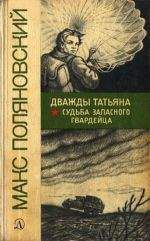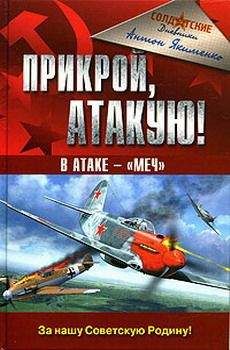Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
На обратном пути попали они под артиллерийский налет, в таких случаях конечно же не сладко приходится, вот второй раз им и не захотелось повторять дорогу. Они и придумали, будто контужены, кого-то из них действительно царапнуло по лицу, мол, ничего не слышим, голова кругом и прочее, рванули а тылы, до самого медсанбата добежали.
А я так и остался лежать в снегу, недалеко от тех домиков. Уже на рассвете я понял, что-то не так, пополз назад. Немцы меня заметили. Из крайнего дома выскочили четверо автоматчиков и, особенно не таясь, перебежками за мной. Я выстрелил по ним из карабина: раз, другой… Они прилегли, поползли, хоронясь за снежными наметами.
Я вскочил и побежал. Они ударили из автоматов. Я упал.
Не знаю, что бы я делал, если бы не Борис и Виктор. Борис прикрыл меня минометами, подкову прямо выстроил. А Виктор прихватил ручной пулемет, человек пять наших бойцов — и навстречу мне.
Тут поднялось такое!.. Немцы пустили в ход тяжелые минометы. От домиков работали пулеметы. Не знаю, как все мы выбрались целыми и невредимыми. В конце я уже не мог ни идти, ни ползти. Меня тащили. Виктор отпаивал меня водкой из котелка, я, наверное, не меньше часа пролежал в воронке — ни ко мне подступиться, ни мне двинуться никакой возможности, — а мороз был с ветерком, я пил водку, и мне она казалась безвкусной, как дистиллированная вода.
А тех двоих на следующий день вернули к нам. Я не мог им в глаза смотреть. А они ничего. Вроде даже пострадали. Вот таких я презирал! И прямо скажу, не жалел.
Почти через ночь повторялись атаки. Все не могли взять ту большую деревню на холмах с высокой церковью. И почти перед каждой атакой от нас требовали пять — восемь человек на пополнение стрелковых рот. Борис выстраивал нас и в сумеречной тоскливой тишине, где даже дыхание задерживалось, шел по ряду, показывал пальцем: «Вы… Вы…»
И тот делал шаг вперед. Как правило, Борис угадывал тех, в ком жил лишь страх и тоскливое желание уцелеть, сохраниться во что бы то ни стало. Их выдавали глаза: пугливо настороженные, прислушивающиеся, словно где-то внутри в них самих вершилась тайна их судьбы. Те, кто возвращался, приходили обычно другими людьми. Они словно сбрасывали с себя оцепенение. Наши минометные позиции казались им уже тылом. Борис никогда не посылал их второй раз. «Они здесь нужнее», — говорил он.
Тех двух, Шкадаревича и Сазонова, он при первом же случае направил в стрелковую роту. И они больше к нам не вернулись. Но большую часть людей, которые были в те дни вокруг меня, — одних я знал лучше, других почти совсем не знал, я видел, как они вели себя, — я бы назвал достойными.
Они никуда не лезли без нужды, но всегда оказывались на своем месте. Они знали и страх — жизнь-то у всех одна! Но умели быть сильнее и своего страха, страданий и горя. Они сразу угадывались. Они возбуждали доверие, тайную неосознанную симпатию. Так возникало то чувство общности, без которого немыслимо на войне.
В те дни с суровой печалью думал я: всех бы, кого я знаю, кого встречал, проверить бы их, пропустить через эту огненную купель. И затем еще долгие годы, уже после войны, госпиталей, не раз смотрел я на людей и с жестоким любопытством прикидывал: а каким ты был бы там? И редко мог отважиться что-либо определенное решить. Слишком много условностей окружает нас в обыденной жизни. И человек — великая тайна в этом великом и загадочном мире.
Томило меня ожесточение. Я старался не думать об Иване, о наших утратах, о смерти Веры, забыть ее, как будто ее и не было, как будто мы так и не встретились. И не она лежала на холме за рекой, могильный горбик занесло снегом, и над ним торчала одна фанерная дощечка со всем тем, что пишут на этих смертных дощечках. Я убеждал себя, пытался уговорить себя, что Вера оставалась в той прошлой давней жизни, к которой не виделось возврата, потому и о встрече не надо было думать и не на что было надеяться.
Меня крепило ожесточенное упорство, его трудно было поколебать, оно требовало действия. Это состояние предельного ожесточения, готовность на крайние усилия не оставляли меня все время, пока я жил этой жизнью переднего края. Потом и оно прошло. Война была большой, и судьба поворачивала нас по-разному. Но тогда я не мог без каждодневного дела.
И я искал его. И находил. На войне легко находить дело, если тебя не пригнула, не придавила опасность.
Продолжались атаки. Штурмовали большую деревню на холмах, с высокой церковью, в ясную погоду колокольня была видна издали, километров за десять, Кресты называлась деревня. Ночью начинали собирать стрелковые роты, на рассвете они подходили к валу; подковообразный, он концами упирался в каменную ограду, немцы облили снежный вал водой, прорубили внизу бойницы, они сидели, как в крепости. Здесь был главный пункт обороны. Сюда направлялись наши усилия.
По льдисто отсвечивающему валу молотила тяжелая артиллерия, штурмовали его наши самолеты, но, очевидно, не хватало согласованности в общих действиях. Когда наши стрелки подходили к валу, немцы оказывались на месте и встречали жестоким огнем. Атака захлебывалась. Наши стекали в низину, прикрытую морозным туманом, а на откосе оставались убитые и тяжелораненые.
Мы минометами поддерживали атакующих.
Виктор понимал меня и всегда уступал это право: управлять огнем минометов. К тому же ему, политруку роты, по неписаным правилам, надлежало находиться на огневой. «Укрепляй моральный дух», — посмеивался Борис. Я числился командиром взвода, и этим определялись мои обязанности.
— Я пошел… — говорил я Борису. И если было настроение, добавлял: — Бувай!
Борис взглядывал на меня своими круглыми желтыми глазами, молча кивал головой.
И я шел на наблюдательный пункт, просто возле ветлы вырыли снежную яму, сделали неглубокий ход сообщения и назвали наблюдательным пунктом. По цепочке — два-три человека — команда передавалась на огневую. Конечно, нужен был провод, телефон, но у нас, минометчиков, его не было. Мы завидовали артиллеристам, у них и стереотруба, и рация. Вырыли блиндаж, потолок в три наката, поставили железную печурку. Борис любил бывать у них. Он и за стрельбой наших минометов часто наблюдал оттуда.
Я расспросил тех, кто бывал поближе, ходы сообщения у немцев шли сразу за валом, неглубокие, в полметра. По рассказам и по своим наблюдениям составил схему огневых точек, — немцы все время меняли расположение своих пулеметов, но в этой смене я уловил определенную систему.
Прежде всего мы пристреляли вал. Взблескивал дальний огонек разрыва — наши минометы едва доставали туда, стреляли с дополнительными зарядами — менял прицел, вспышки не было, значит, взрывалась мина за валом. Как только наши поднимались в атаку, мы открывали шквальный огонь из всех наших шести минометов. Видно, мы досаждали. На нас обрушивались артиллерия и тяжелые немецкие минометы.
Но часто нам приходилось умолкать по другим причинам. Не хватало мин…
У нас начались большие строгости. Запретили днем ходить по передовой, боеприпасы теперь подвозили только ночью, кухня приезжала в ранних сумерках и поздно вечером. В деревнях, где размещались тылы, днем прекращалось всякое движение. Деревни словно бы вымирали. Старшина жаловался на неудобства: ночью получать продукты, днем кухни запрещалось разжигать, попробуй успей к вечеру приготовить обед и ужин. Пополнение (стрелковые роты получили небольшие пополнения) влилось незаметно в глухие ночные часы.
Командный пункт полка передвинулся к реке. Командный пункт дивизии размещался где-то неподалеку за ним, в деревне.
Наконец-то прибыл новый командир дивизии. Говорили, плакал старик, когда принимал дивизию. «Каких людей погубили, я бы с такой дивизией до Берлина дошел». Солдатская молва любит красочные подробности и трогательные детали. Поди разберись, что было здесь правдой, что выдумкой. По этому же солдатскому телеграфу узнали мы, что наш новый командир воевал с первых дней войны, вывел свою старую дивизию из окружения, шел по городу Т. впереди, рядом со знаменем, в мундире, но босиком, сапоги расползлись… Виктор припомнил, что слышал раньше фамилию генерала: во время гражданской войны был он известным командиром партизанских отрядов в Сибири. Когда арестовали Блюхера, пострадал и наш генерал. Освободили его перед самой войной, а самую войну он начал в старом звании комбрига, и только после того, как он вывел дивизию из окружения, ему присвоили звание генерал-майора. Он был награжден орденом Ленина, и будто сам Сталин прислал ему поздравительную телеграмму. Так оно было или не так, но генерал круто наводил порядки: он сменил начальника боепитания дивизии, отстранил от должности начальника штаба нашего полка.
«За то, что штаб не располагал проверенными данными об огневых точках противника на нашем участке», — сказал Борис. Его вызывали в штаб, поговаривали, будто он должен был возглавить полковую разведку, а прежний помощник начальника штаба по разведке был уже снят или собирались снять его в ближайшее время.