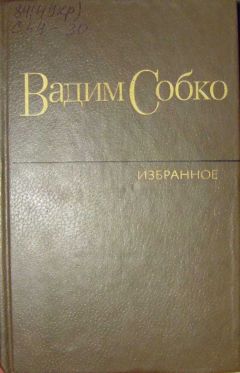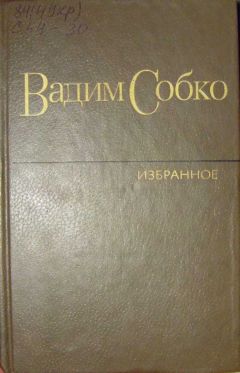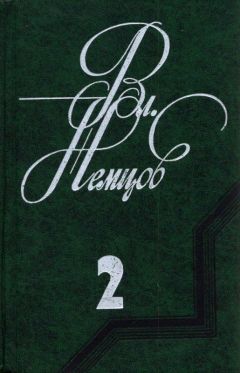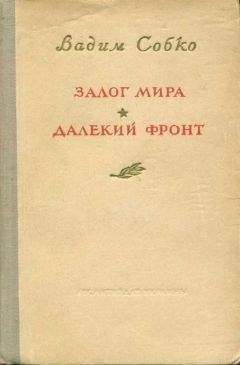Вадим Собко - Избранные произведения в 2-х томах. Том 2
На другой день Шамрай, с раннего утра начистил сапоги, подшил свежий подворотничок и направился в военкомат. Молоденький писарь, взглянув на его документы, встал, сказав: «Сейчас доложу» — и исчез за дверью. Вскоре снова появился, улыбнувшись, проговорил:
— Проходите, — и распахнул дверь.
Шамрай вошёл в кабинет. Василий Иванович Грунько сидел за широким столом, читая его документы. Тот самый Грунько, который приказал тебе, Роман, и бойцу Могилянскому прикрывать шоссе под Киевом… Это было, кажется, тысячу лет назад. Целая вечность отделяла тебя от того часа, хотя и прошло всего лишь четыре года.
— Проходите, проходите, товарищ Шамрай.
Лейтенант подошёл к столу, сел на предложенный стул. Грунько немного поседел, но не очень-то изменился.
— Где мы с вами виделись в последний раз? Под Киевом. Правда, вас там оставили прикрывать отход. Как же вы остались живы? — Грунько был вежлив, даже любезен, но в каждом его слове чувствовалась зоркая насторожённость.
— Меня оглушило гранатой, и я попал в плен.
— А дальше?
Шамрай рассказал. Грунько слушал внимательно, и на его круглом полном лице ясно обозначилось недоверчивое удивление.
— Значит, вы женились, и у вас во Франции осталась жена? — уточнил он, когда Шамрай закончил свой рассказ. — Брак оформлен юридически?
— Нет. К кому мне следует обратиться, чтобы оформить её приезд?
— Подождите. Сначала нужно всё выяснить с вами.
— Что же выяснять со мной?
Грунько встал, высокий, плотный, с погонами подполковника на плечах, прошёлся по кабинету, посмотрел на Шамрая. Взвешивая каждое своё слово, сказал:
— О вас многое, весьма многое надо уточнить. Мне не впервой приходится выслушивать разные истории от пленных… бывших пленных, — поправился Грунько. — Все они поразительно захватывающи. Ваша не исключение. А вот правду ли вы рассказали — неизвестно. Потому и не обижайтесь и не имейте претензий к нам, если мы попробуем кое-что проверить…
— Пожалуйста, проверяйте. У меня совесть чиста.
— В список демобилизованных я включу вас немедленно. Думаю, что там, в Париже, вам несколько поспешно выдали форму, но об этом потом. Вопрос о вашем пребывании в армии решится месяца через два. А до того времени придётся подождать. И ещё одно, товарищ лейтенант, пока вы носите военную форму, я просил бы вас об этом не забывать. Этот цветок за ухом не к лицу офицеру.
— То же самое мне однажды сказала Жаклин.
— Кто?
— Моя жена.
— Могу вас поздравить: у вас неглупая жена. Желаю успеха.
В тот же день вечером Шамрай сидел в своей комнате и писал письмо Жаклин. Разговор с военкомом не только не испортил ему настроение, даже не посеял тревоги, таким сильным было убеждение Шамрая в собственной чистоте.
Теперь он писал ей письмо не из Гамбурга, а из дома, и под рукой были словари, так что работа пошла быстрее. Но всё равно Шамрай не мог выразить то, что хотелось, рассказать ей и о весне в Суходоле, и о тёплом синем ветре, который гуляет над Днепром, и о его, Шамрае, тоске по ней, о его любви… Слова выходили из-под пера какие-то сухие, казённые, фразы короткие, и чувства потому выглядели бледными и, наверное, смешными. Он перечитал своё письмо. Да, не очень-то складно. Но не беда, Жаклин поймёт. Беда в другом. Он не сообщал Жаклин ничего определённого о её приезде. Что сделал он для их скорой встречи? Ничего. Так почему же он сидит, как пень, пишет нежные слова о любви, вместо того чтобы действовать!
Он будет писать в Москву. Будет писать каждый день. И писал. Письма исчезали в чёрной щели почтового ящика. Но ответ не приходил. Он продолжал писать. В Москве всё же должны понять Шамрая, что без Жаклин ему нет жизни.
Его демобилизовали, выдали деньги и паспорт. Лейтенантские погоны он снял с сожалением. Без них военная форма выглядела странно. Нужно было думать, как жить дальше, и он пошёл на завод, в отдел кадров. Приняли охотно. Как и до войны подручным сталевара.
Волнуясь, подошёл впервые после долгой разлуки к мартену. В памяти сразу возник другой завод и Якоб Шильд, и памятник Ленину, и холодный металл бомбы…
— Не забыл, как лопату держат в руках? — понимая его чувства, улыбнулся сталевар Зинченко. — Хорошо, друг, что жив остался. Люблю, когда возвращаются сталевары.
Здесь Шамрай почувствовал себя легко, свободно. Это было его настоящее место, для такой именно работы родился он, видно, на свет. И Жаклин тоже не представляла жизни без работы, настоящей, доброй. Они не раз говорили об этом в бессонные счастливые ночи. Пусть всё его тело тогда, стиснутое гипсом, исходило страшной болью, мысли были счастливыми, они с Жаклин жили надеждой. Надеждой на счастье. Мечтой…
А пока он лишь писал письма Жаклин. И видел, как начинает постепенно подчиняться ему чужой язык. И слова свободнее лились на бумагу. И снова письма падали в почтовый синий ящик, как в прорву, — ответа не было.
Однажды (это уже было в мае) Шамрай вернулся с работы и увидел испуганные глаза тётушки Марии, жены старого Корчака. Была она невысокая и худощавая, будто вырезанная из сухого дерева. Тараторила — что горох сыпала: тысячу слов в минуту, и первая знала все суходольские новости и события во всех подробностях. Но на этот раз в её выцветших, как застиранный ситчик, глазах была тревога.
— С почты приходили, — шёпотом, доверяя Шамраю тайну наверняка государственной важности, проговорила она. — Немедленно, сказали, нужно тебе явиться.
У Шамрая оборвалось сердце от радости. Пришёл ответ на какое-то письмо. На какое? Кто откликнулся?
Он побежал на почту, будто на пожар. Предъявил в окошко уведомление.
— Зайдите к начальнику, — прозвучало в ответ.
Шамрай прошёл в комнату, где стоял длинный, сколоченный из досок стол и большой сейф. Начальник, наголо остриженный, грузный инвалид, взглянул на Шамрая с интересом и одновременно с подозрением. Так встречают человека, от которого всего можно ожидать.
— Вот уведомление, — сказал Шамрай.
— Говорите громче, я глухой, контузия, — крикнул почтарь.
— Вот уведомление, — во всё горло крикнул Шамрай.
— Паспорт есть?
Начальник долго изучал новенький паспорт Шамрая, потом тяжело поднялся, глухо бухая деревянным протезом в пол, подошёл к сейфу, порылся там, нашёл письмо, медленно, словно боясь допустить ошибку, запер тяжёлые стальные двери и только тогда вернулся к столу.
— Ну, давайте же скорее! — Шамрай сразу увидел письмо от Жаклин.
— Подожди! Нужно зарегистрировать и расписаться, — прокричал почтарь. — Вот здесь запиши номер паспорта. — И осторожно, будто стакан с кислотой, которая может, плеснувшись, ожечь пальцы, передал письмо Шамраю.
Дома, закрыв дверь, Роман присел к столу, положил перед собой конверт, и тотчас же… к нему тихо вошла Жаклин, положила свои сильные и ласковые руки ему на плечи, и он почувствовал запах её волос, кожи, услышал её низкий голос… Письмо лежало на столе, тёплое, будто живое… Слёзы жгли глаза, он с трудом пытался проглотить горький, застрявший в горле твёрдый ком и не мог…
Конверт был длинный и узкий, не похожий на привычные глазу наши конверты. Шамрай разорвал, вынул старательно сложенный и мелко исписанный листок бумаги. К этому листочку бумаги прикасались руки Жаклин, её добрые руки…
Шамрай сидел долго, словно окаменев. И только тогда, когда совсем высохли слёзы, начал читать.
«…У нас было много времени, — писала Жаклин. — И всё-таки я не долюбила тебя и не успела сказать тебе что-то самое важное…»
Она уже получила его первые письма, знала о его стараниях добиться разрешения на её приезд, но почему-то об этом ничего не писала.
«Пиши мне чаще, — читал Шамрай последние строчки, снова слыша голос Жаклин. — Мне сейчас очень нужно, чтобы ты писал мне часто… Отец тебе шлёт свой привет».
Из своей комнаты Шамрай не выходил до позднего вечера. Тётушка Мария просто сгорала от любопытства и нетерпения, но Роману было не до неё. Он сидел за столом и в десятый раз писал, зачёркивал и вновь писал письмо.
Вечером, выйдя из комнаты, он увидел ждущие, беспокойные глаза тётушки Марии.
— Что пишет? — спросила она так, что не ответить на её вопрос было невозможно.
— Скоро приедет, — сказал Шамрай.
— Ну и слава богу. Встретим, так уж встретим, — проговорил Корчак.
— Что-то ты не очень рад, как я погляжу, — не отставала тётушка Мария.
— Потому что приедет она не так скоро, как мне хотелось бы, — тихо ответил Шамрай.
И даже тётушка Мария поняла, что больше спрашивать ни о чём нельзя, что нужно дать покой человеку, когда у него тяжко на душе.
А что на душе у него невесело, догадаться было совсем нетрудна. И потому все в доме замолчали. А старый Корчак, сокрушённо покачав головой, подумал, что хоть самое страшное миновало, людям после войны всё же не так-то просто живётся на свете.