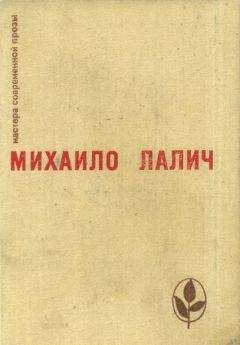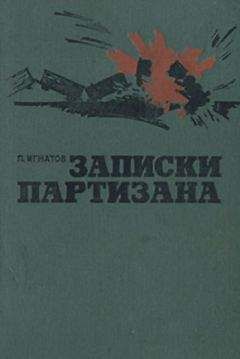Михаило Лалич - Облава
— Неужели погиб? — спросил Ладо, не веря своим глазам.
— На открытом месте, — зарычал Шако. — Да еще грудь выпятил…
— Что ж ты не сказал, чтобы я оттащил его?
— А ты сам не видел? Глаза и у тебя есть.
— Ссору отложите до завтра, — крикнул Зачанин.
А про себя подумал: «Завтра уж не будет! С нынешнего дня мы земля и навсегда ею останемся. Никогда больше не поглядим друг другу в глаза и не поспорим всласть. Тихо-тихо будем покоиться в земле и во тьме».
«Высокая зеленая ель Тьмы…» — сто раз я спрашивал, что это за песня и что это за женщина такая — Тьма? Никто не знал. Верно, это дано узнать, когда пробьет час смерти? И лучше, что так. Сейчас вот я знаю, кто такая Тьма, и вижу, как одного за другим нас покрывает своей тенью высокая ель Тьмы. Ненавижу тебя, темная Тьма, убил бы тебя, если бы мог! Ты отвратительна, прожорлива вместе со своей елью, которая переплела корнями землю, а ветками закрыла солнце и месяц! Ненавижу тебя за несправедливость, за то, что не знаешь порядка, выхватываешь вне очереди молодых — сука ты, Тьма!..»
— Ребята, — сказал он, — чего вы еще ждете?
— Ждем ночи, — сказал Шако.
— Ночь будет, и долгая. Лучше бы чего-нибудь другого.
— Чего?
— Не знаю. Надо их как-то перехитрить, испортить им победу.
— Арсо ушел, и хватит.
— Нет, не хватит! Шако, дай деру!
— Стреляй, если можешь, не болтай пустое!
Зачанин умолк и стал высматривать себе цель. Цепь преследователей приблизилась, люди остервенели. Те, кто дальше, переходят поляну, не прячась. Он мог бы снять одного или двух, но не хочется стрелять в первого попавшегося. Кокнуть бы кого-нибудь из знакомых. Поэтому приходится ждать. Ясно, что Гиздич не встанет ему под мушку, и Леко Брадарич бережет свою голову, как поп попадью; теплится, конечно, маленькая надежда увидеть Филиппа Бекича. Он иногда любит пофорсить, или хотя бы Тодора Ставора. Еще утром, под Белой, он слышал, как кричал Ставор — с тех пор он все время поджидает его, удивляясь, почему это его не стало слышно. Вдруг ему почудился его голос, он повернулся — да, вроде Ставор: сутулый, коротконогий, с сединой на висках. Старательно нацелившись, он выстрелил — осечка. Зачанин снова начал целиться, но пуля попала ему в лоб, он удивленно поднял брови, голова откинулась назад в тень высокой ели Тьмы…
— Ушел и он, — сказал Шако. — Сейчас уж нам больше нечего здесь ждать.
— Есть, — возразил Ладо. — Ночь будем ждать.
— Не хочется мне сегодня что-то умирать. И, уж во всяком случае, не здесь, тут и без нас довольно! Лучше уж где-нибудь в другом месте!
— Ишь чего захотел.
— И еще хочется разок отомстить всласть.
— Чем дольше живешь, тем больше есть за что мстить. Если этого ждать — никогда конца не будет.
— Пусть лучше не будет конца, чем, как сейчас, никакого выхода.
До сих пор в глубине души Шако верил, что выход найдется, но когда вдруг потерял и последнюю крупицу веры, ему стало тошно. Шум и крики начали напоминать ему громоподобный хохот. Он подумал, что смеются над ним. Смеются не только православные, мусульмане и карабинеры, но и кусты, солнце, смеются так, что в горах грохочет эхо. Шако испугал этот хохот, опостылело бессмысленно повторять без конца три одинаковых движения — зарядить, выстрелить, разрядить, — в то время как весь мир над ним потешается. В голове у него закружилось, — сначала медленно, потом все быстрей и быстрей, — он почувствовал, что немеет правая рука, а вслед за ней и левая. «То же самое, — подумал он, — было со мной на Кобиле, над пропастью Невесты, когда я не знал, что делать с пулеметом. Но тогда на Кобиле Ладо быстро помог: расставил широко ноги, поднял железину над головой и швырнул в пропасть, только два раза и звякнула!» В ушах Шако снова раздалось звякание металла, и его охватило радостное чувство, для которого тогда не было времени: «Мы сделали все, чтобы омрачить им победу… Может быть, и сейчас что-то такое придумать, — подумал он, — выкинуть какой-нибудь трюк. Кручи есть и здесь, голые скалы рядышком, ход к ним свободный. Если бы еще нашелся человек, который столкнул бы меня со скалы, или я сам смог бы себя столкнуть — вот и была бы оттяжка…»
— Как тебе нравятся эти скалы? — спросил он Ладо.
— Разве здесь есть скалы? Не знаю, я их не видел.
— И хорошо, что не видел, — скверные. Но сейчас для нас все скверно, выбирать не приходится.
— Думаешь броситься с них вниз?
— Да, думаю, вверх-то некуда.
— А что ж? И мне тут надоело ползать. Лучше лететь, чем ждать, когда тебя пришлепнут, как почтовую марку.
— Будет тряско, знай, и все равно станем марками, только позже.
— Пусть тряско, зато хоть какая-то перемена.
— Хочешь первый?
— Нет, я за тобой. Ты лучше знаешь местность.
Про себя Ладо и не собирался следовать его примеру, он говорит, лишь для того, чтобы подбодрить и раззадорить Шако. Самому ему никуда не хочется идти, он устал, промок насквозь, весь изломан, окоченел, нет сил подняться. «Да, кажется, и не нужно: слишком уж затянулась эта странная история, которая началась бог знает когда и все равно сведется к одному. Пора наконец поставить точку. Все равно какую — черную или красную. Здесь или среди скал все точки одинаковы, а краски призрачны. Будь что будет — жить живи, да честь знай, чужого века не заедай. Надо и другим оставить кой-какие незаконченные дела и задачи, чтобы и они не жили понапрасну. Будут еще коммунисты, или как их там станут называть, они будут до тех пор, пока страдают люди, а люди будут страдать, пока существует мир. Выдюжат и Тайовичи — жилистый, злой корень. Сейчас там маленький Тайо, Бранков сын; может, появится и второй малыш, Недин сын, — составит ему компанию, чтобы вместе царапать других ногтями. И совсем неважно, мой ли сын этот второй малыш или Велько Плечовича, меня на свете не будет, и некому будет смотреть на него да изучать. Все равно, чей он сын, пусть только родится и пусть вострит ногти…»
Думая об этом, Ладо посылал пулю за пулей через равные промежутки времени. Все так просто — руки привычно делают три движения — зарядил, выстрелил, выбросил гильзу. Ладо совсем позабыл про Шако, про скалы и полет. Но вдруг почувствовал, что в него уже не стреляют, облавщики кричали на кого-то другого, раздавались удивленные возгласы. Он понял, что остался один, и испугался своего одиночества. Ладо вздрогнул и в безумном страхе кинулся вниз. Крики усилились и подталкивали его в спину. Перескочив через кусты, он увидел внизу алчно зияющую бездну с бесконечными зубьями обрыва. Наконец он догнал Шако, обрадованный, что теперь он не один. Крик ширился, стрельба приближалась, а Шако все бегал по краю пропасти, выискивая место, и никак не решался прыгать.
— Ты что? — крикнул Ладо. — Будешь прыгать или нет?
— Плохо вижу, не могу найти места.
— А тут нечего видеть. Зажмурься и вот так, — сказал он и оторвался от земли.
РАДОСТЬ УМЕРЛА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ
Разыскивая убитых и раненых по Свадебному кладбищу, Пашко Попович остановился у чьей-то покривившейся ограды. Плетня из-под снега не видно, торчат только вкривь и вкось колья. Тени от них как длинный ряд винтовочных стволов, направленных в сторону горы. Пашко казалось, что из этих стволов то и дело вылетают черные ящерицы, поднимаются ввысь и часто-часто стрекочут, чтобы не упасть. И с других сторон слетаются ящерицы, словно на шабаш, кружатся, гоняются друг за другом, грызутся и грозят резкими криками. Уже образовалась целая туча, тень ее ширится по плоскогорью и омрачает день. Вверху над тучей и над заходящим солнцем ходят волны выстрелов и, сталкиваясь, грохочут, точно весенний гром.
Пашко знает, что это за гром, знает, что гремит не в небе, а на земле, на Рачве; облава как и повсюду в мире, чтобы хоть в этом не отстать от других. Он и знает об этом и не знает — хочется спать. Воспаленные глаза закрываются сами. Когда он дает глазам отдохнуть, ему чудится, будто картина, которую он видел там, наверху, настоящий морок: призрачные силы обманывают людей, сводят их, заставляют упорно преследовать и убивать друг друга. А за всем этим таится старая Злая Нечисть, за чьими повадками и изощрениями Пашко давно уже следит. Перерядилась, чтобы ее не опознали, и принялась сотнями рук тесать и сколачивать огромный гроб для Гары, для Вуле Маркетича в сербских вязаных чулках, для Раича Боснича, которого они едва узнали, для неизвестного парня, что и мертвый улыбался, для упрямого Тодора Ставора, для мусульман, для святого Памфила, который исправлял ошибки в списках Евангелия, и для пяти братьев из Египта, казненных в Цезарии палестинской… Для всех живых готовит погребение, — ведь облава всюду, и скоро все будут мертвыми, — валит деревья, изводит целые леса, строгает доски, сколачивает гробы, копает могилы. Порой она готова завыть от радости, хохочет над глупостью людей, воображающих, что они свободны и живут согласно своей воле. Ведь на самом-то деле они выполняют то, что она — Злая Нечисть — им внушила и чего заставила желать.