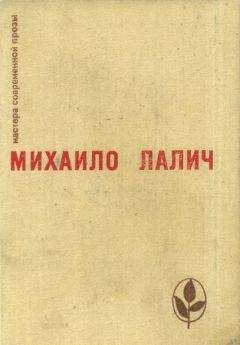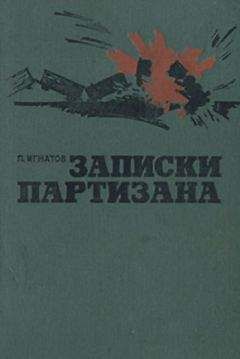Михаило Лалич - Облава
— Ты подоила коров? — спросил он.
— Уж не хочешь ли ты их подоить?
— Могу помочь. Я люблю хозяйничать по дому.
— Поищи какой-нибудь другой дом, может, кто ошибется и примет тебя в работники.
— Коровы могут заболеть, если их долго не доить, перегорит молоко в вымени.
— Дай бог, чтоб у тебя мозги в голове перегорели!
— Ты, старуха, партизанка, — крикнул Граф. — Меня ненавидишь, а еврейку обхаживаешь.
— Не нравится, уходи! Либо убирайся, либо молчи! А еще раз помянешь еврейку или рот откроешь, я тебя вот этой дубиной по голове!
И она взмахнула сучковатой дубинкой, показывая, какая она с виду и как она ею владеет. Шелудивый Граф тут же захлопал глазами, и ему тотчас захотелось очутиться где-нибудь в другом месте, под другой крышей и другим небом. Он резко отпрянул, чтобы избежать удара, коснулся ступней края кровати, и его пронзила острая боль, — точно внезапно пробудился и зашипел целый клубок быстрых змей.
VВ лесу на Кобиле Арсо Шнайдер отыскал застывшее тело мусульманина с красными усами. Впрочем, такими они ему только показались, и он отвел глаза, чтобы не видеть, почему они красные. Он протянул было руку, чтобы снять с головы убитого чулаф, но при мысли о том, что этот чулаф, еще влажный от предсмертного пота, надо будет надевать себе на голову, Шнайдера передернуло от гадливости. Он отскочил назад и огляделся по сторонам, не видит ли кто его. Кругом ни души, стоят одни деревья, но это не просто деревья, они одеты в черные чикчиры и черные свиты до пят и с напряженным вниманием следят за тем, как он приближается к этой последней черте. Стоит ему ее перейти, и они разом заорут, подобно тем, на Рачве: «А-а-а-а!» И потом, куда он ни ткнется, мимо какого дерева или куста ни пройдет, его всюду будет сопровождать это «а-а-а-а!». Арсо отступил еще шагов на десять и продолжал пятиться в страхе, что чулаф с головы мертвеца пойдет за ним, как плохая молва.
— Я не взял его! — крикнул он деревьям. — И никогда не возьму, никогда… Я не хуже других, а тоже могу скрепить сердце и погибнуть. Я теперь не боюсь!
Отзвуки, догоняя друг друга, перемешались и превратились в дружный лай, полный удивления и насмешек:
— Поглядите-ка на него!.. Дурень, дурень… Раньше не догадался?.. А-а-а-а!..
— Это никогда не поздно! — старался он перекричать эхо. — Здесь в любое время можно умереть. Никто не опоздает, не дадут, если даже и захочешь. Тоже мне забота!
Он вышел из леса на открытое место и удивился, что все по-прежнему тихо. Тени, совсем уже черные, вытянулись по снегу — высунутые языки леса лижут снег. Арсо вышел из теней на освещенный солнцем простор, поднял голову, выпятил грудь в ожидании выстрелов. Ждет, ждет — ничего, не видят его, не признают. «Может быть, я уже мертвый, — подумал он, — потому они меня и не видят и не стреляют. А то, что я вижу сейчас — истоптанный снег, солнце, кусты, горы, долины, — лишь плод моего воображения, посмертные воспоминания? Впрочем, если я не мертв в буквальном смысле, то для наших я мертв, а это значит — и для себя и для других. Лучшая часть меня уже мертва, остальное тащится за ним. Я не почувствовал, ни когда пришла смерть, ни когда она ушла, — видимо, когда приходит смерть, уже ничего не чувствуешь. Я слишком много придавал ей значения, а смерть всего лишь ничтожная точка и смысл ее лишь в том, что она последняя в нашем поле зрения. Ноль, и ничего больше. Неважно, больше она или меньше других, главное, что она последняя в долгом ряду цифр и нолей, составляющих неопределенное число, которое, благодаря возможности его продолжить, называется жизнью. Подстановкой ноля смерти завершается наконец число лет, дней и прочей суеты, оно заносится в огромные гроссбухи, в которые никто никогда не заглядывает. И сам бог не заглядывает! Нету бога — напрасно я крестился и срамился — пусть себе идет с богом!»
Он стиснул зубы и оглянулся в поисках того, кому можно было бы это сказать. Никого нет, кругом одни деревья — смотрят на него, будто люди, кто с грустью, кто с насмешкой.
— Нету бога! — крикнул он лесу, как кричат на военном смотру.
— Нету бога! — подтвердил лес надтреснутыми голосами.
— Я жив! — заорал он и удивился силе голоса, которая еще в нем сохранилась.
— Жив? Жив? Жив? — удивленно прозвучали отголоски.
— Удрал! Дезертир!
— У-а, у-а, деети-и-и-ир, — расплывчато заголосило эхо.
Казалось, будто сквозь черную лесную чащу пробираются любопытные духи деревьев и выглядывают, чтобы посмотреть на него, пожалеть и все-таки осудить. Потом все утихло, стало по своим местам. Только горы стоят немного по-другому, но и они на месте — высятся под солнцем и слегка покачиваются, словно плывут по волнующемуся морю. Кусты кажутся выше, и их больше, чем прежде, но это от удлинившихся теней. Белые куры, которые не так давно засыпали его перьями и криком, исчезли, ни одной не осталось. Ушли на Рачву, все там собрались, — слышно, как остервенело хлопают крыльями и квохчут, бегут за Видричем. Иван Видрич их не испугается, ему и в голову не придет спасаться от них на дереве. И Шако тоже, да и другие, если кто еще остался в живых… Арсо остановился и прошептал:
— И я сейчас не испугался бы! Не потому, что они далеко, ведь самое худшее, что они могли мне сделать, они уже сделали, — ошибся я, что не дождался конца. Если бы я его принял, этот конец, то сейчас был бы не полумертвым, а мертвым, и все было бы в порядке.
Раздумывая, что делать и куда податься, он вдруг понял, что мысли его текут вяло, вразброд, что это и не мысли, а отрывочные, быстро сменяющиеся воспоминания, словно выхваченные из темноты внезапной вспышкой молнии. Вот он бежит из-под дерева, чтобы не видеть, как Зачанин орудует ножом; вот упала Гара, а он бежит от нее, даже не протянув ей руки; вот у всех на виду он крестится и призывает бога…
Шнайдеру стало стыдно, лицо его исказилось. Он почувствовал, как у него ощерились зубы, длинные, острые, вот-вот вопьются в горло. На снегу скукожилась и корчилась его тень — точь-в-точь черный скорпион, который готовится убить самого себя.
«Не торопись, — сказал он себе с недоброй усмешкой, — с женщинами и с самим собой ты герой! Дело не в одной какой-то ошибке, за которую можно сразу заплатить; ошибок много, и придется искупать их долго и постепенно, одну за другой. Началось это с того, что я заснул на часах и натерпелся во сне страха, пытаясь удрать от падающего телефонного столба. С тех пор я только и делаю, что даю деру, спасаюсь бегством. Первая моя мысль — пуститься наутек, а не помочь товарищам или защищаться. Весь день у меня нынче будто страшный кошмар с бесконечным бегством. Может быть, я и сейчас все это думаю во сне и не знаю, как проснуться? Надо вернуться туда, где все началось, только там я смогу сбросить с себя чары, заставляющие меня все время убегать. Если я вернусь туда и проснусь по-настоящему, может быть, тогда станет ясно: все, что со мной произошло, было лишь страшным сном…»
Арсо пошел, но, сделав с десяток шагов, заметил, что ходит он как-то странно. Его заносило вправо, непонятная боль укорачивала шаг. Движения стали резкими, изломанными, судорожными, он не шел, а как бы бежал вприпрыжку. Это напоминало ему детство, когда он так рысил, передразнивая лавочника Бучу, который потешно ковылял по лавке и кричал:
— Сначала деньги, потом товар! В кредит не дам и самому господу богу!
Лавочник жаловался на позвоночник; потом он совсем сгорбился и, скоро умер. Арсо понял, что и его болезненные судороги идут от позвоночника. Может быть, ранило, подумал он с радостью, его устроила бы и самая ничтожная рана, все было бы какое-то оправдание. Он сунул руку под шинель, джемпер и рубаху, ощупал себя и помрачнел — снаружи ничего нет, рана, видимо, внутри, а такие раны никто не признает. Он ускорил шаг, и в тот же миг у него потемнело в глазах; попытался выпрямиться и пойти нормально — боли согнули его в три погибели.
Он узнал дерево, возле которого бросил Зачанина, и тотчас свернул вправо. «Подходить не буду, — заметил он про себя, — нет времени. Да и зачем, что мне это дерево? Мне нужно убедиться, что это был только сон, а не разуверять себя в обратном. Не нужна мне правда, если она такая. Это тогда не правда, а сука! Так я ей и скажу — сука! И пусть идет с богом!..»
Он умышленно обогнул место, где погибла Гара, и отвел глаза в сторону, чтобы ничего не видеть, если там еще есть что видеть. Поскользнувшись на спуске, он упал, обнял винтовку и покатился вниз. Долина, где он поднялся на ноги, была покрыта тенью и показалась ему совсем незнакомой. Это его не удивило: не все ли равно, подумал он, может, даже и лучше, что другая. Арсо плохо видит — болит голова, в глазах бегают мушки, веки горят огнем. Лучше всего вообще не открывать глаз, а только щуриться, чтобы было видно на три-четыре шага вперед — не смотрел бы и так, если бы не деревья, они идут снизу навстречу и несут свои твердые круглые животы куда-то вверх. От усталости Арсо забыл, куда идет. Вспомнился Видо Паромщик, для него так и осталось загадкой: откуда он пришел и куда исчез?.. Из слепящего блеска вынырнул вдруг и преградил ему дорогу пень; пока он его обходил, ему почудилось, будто за пнем сидит Ладо и ставит на огонь джезву[64]. Это тот, что здорово пьет, он споткнулся на женском вопросе: пусть себе сидит — всяк за себя отвечает… И даже не оглянулся. Услышал только, как черный человек бросил ему вслед пустую джезву, выругался и пошел куда-то в гору. Доносились и другие голоса, верней — скулеж. Из-за стволов, с чердачных тайников, из развалин выползают, перегоняя друг друга, выжившие счастливцы в рванье и сами рвань. Арсо Шнайдер уже не один, он лишь впереди одной из колонн огромного синдиката изнемогших и раненных изнутри, тех, кого унесли вилы, кто пролез сквозь игольное ушко и спас себе жизнь. Одни стонут и причитают, другие спотыкаются, падают на крутизне и дальше ползут на четвереньках. У них болят ноги и глаза, они не смеют посмотреть друг на друга, они повесили головы и боятся даже воспоминаний. Скрипит снег у них под ногами, катятся комья и комочки, и по этому видно, что их много. Они жалеют, утешают друг друга. Они не знают, где находятся, куда идут, им ясно только одно: надо спускаться вниз. Вот они остановились, чтоб договориться, и бормочут на разные голоса, предупреждая друг друга: