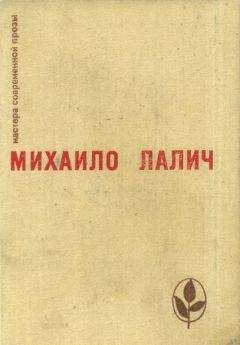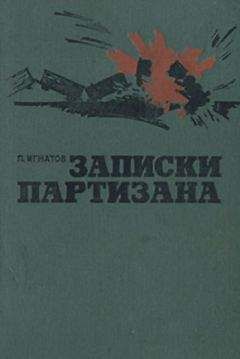Михаило Лалич - Облава
Когда Ладо бросился с отвесной голой скалы, остался один на один с зияющей пропастью и ощутил ее холодящее дыхание, он позабыл о людях, о ненависти, о мести, о Неде и обо всем, что привело его сюда. Ладо чувствовал только первобытный страх, чувствовал, как он чередуется с болью, хищно соревнуется и смешивается с ней, неосязаемый, как облако, и вязкий. Ладо проваливался сквозь это облако, судорожно стискивая в объятиях винтовку — единственное, что его еще связывало с людьми. Он смотрел на Шако, видел, как тот с удивлением встает, ощупывая себя, и вдруг испугался, что товарищ попросит у него помощи, а он не сможет ее оказать. Неужели после всего, что случилось, недоумевал Ладо, может существовать еще какое-то «после», какая-то жизнь, похожая на ту, которая прошла и в которой снова нужно шагать в лохмотьях и опанках, будто ничего не произошло.
Шако тем временем встряхивал головой, пытаясь отогнать от себя всякие мысли: можно жить и без мыслей, легче, когда ни о чем не думаешь; надо куда-то идти, надо идти вниз, потому что вниз идти легче. Он шел, спотыкаясь, хватая здоровой рукой то ветку, то воздух, пересеченный длинными тенями. В ушах стоял звон, и ему казалось, что где-то впереди мир гремит пенистыми громовыми раскатами водопада. В налитых кровью глазах прыгали черные точки, то и дело заплывая туманом, в котором ему виделись заборы, распахнутые калитки, коридоры, образованные веревками, с развешанными на них простынями, штабеля дров в дворах, тесных от множества амбаров и клетей, куда вели расшатанные ступеньки из побеленных камней. В этих призрачных селениях, откуда угнано или разбежалось все живое, он временами неясно видел и с неудовольствием полуузнавал Ладо. Ему не хотелось тратить силы и утруждать свой мозг, рыться в запутанном прошлом землянок и смертей и вспоминать его имя. Шако лениво рассуждал: «Вот уж навязался на мою голову, ни на шаг от меня, и без него забот полон рот…»
И только стрельба со скал, смягченная расстоянием и шумом в ушах, подтверждала, что они живы, и напоминала, что они в каком-то роде близкие. Они посмотрели друг на друга, все еще без слов, и им стало жаль друг друга. Вернулось что-то из прошлого: они тут, рядом, части одного и того же организма, правая и левая рука, им есть на кого положиться, есть на кого опереться, по крайней мере, можно думать не только о себе. Их связывает прошлое, а после общего нового рождения они почти близнецы; они нужны друг другу в том неясном грядущем, в которое вступили, чтобы не оставаться одним, чтобы не казаться смешными самим себе, не сойти с ума от одиночества и колебаний на том пути, на который они вступили прежде, чем узнали его бесконечные излучины. Ощущение несокрушимой верности и малая толика молчаливой любви, заменившие им в этот тяжкий час все прочие товарищеские отношения и клятвы, несколько подбодрили их. Даже усталость стала немного меньше и боль слегка утихла. Страх же и раньше не очень им мешал — в течение всего дня он постепенно таял, пока не исчез совсем, точно у них ножом отсекли чувство страха и соответствующий центр в мозгу, который обязан воспринимать знаки опасности.
На стрельбу они уже почти не обращали внимания. Крики сверху стали глуше и слабее. И то и другое превратилось в пустой собачий брех за спиной: тявкает и воет сумасшедшее прошлое — хоть этим хочет отомстить за то, что по старости не может больше кусаться. Шако вдруг засмеялся и каким-то чужим голосом сказал:
— Остались мы с тобой вдвоем — богу и людям на потеху!
— Ты знаешь, куда идти?
— Сначала найдем чего-нибудь поесть, — и машина с места не сдвинется, пока ее не подмажешь.
— Я бы только ракии выпил, — сказал Ладо.
— Будет и ракия, и сало с горячим кукурузным хлебом. Пока жив человек, он должен есть, после уж можно и без этого.
— Потом он свободен, может без всего обходиться.
Они вышли из скалистой, заросшей кустарником местности на почти ровный простор. Солнце опускалось, и большая тень Рачвы добралась уже до соснового леса. Добрались и они, зашли в лес и остановились осмотреть полученные при падении раны и ушибы. Вверху, на скалах, произошли какие-то перемены: стрельба прекратилась, а нестройный хор толпы сменил скрипучий голос со множеством созвучных слогов.
— Это итальянец, — сказал Шако, — стихи какие-то шпарит.
— Не стихи, он говорит кому-то, что нас двое и что мы ранены.
— Коли так, готовь винтовку — придется начинать снова. Черт бы их драл, пропало наше сало! Если ранят одного, другой должен его пристрелить — согласен?
— До этого не дойдет, сейчас уже легче.
— А если дойдет?
— Это он говорит итальянцам. Напрасно трудится, они заглядывать в лес не любят.
— Значит, не согласен.
— Согласен, если тебе так приспичило, — сказал Ладо, — не так уж это трудно.
А про себя заметил: «Наверно, это очень трудно, однако заставить себя как-то можно. Но если Шако ранят, что я буду делать один?» И тут же Ладо попытался задвинуть этот вопрос куда-нибудь подальше и поскорей о нем позабыть, но он выплывал снова и снова, оттесняя другие мысли. Не оглядываясь больше на Шако, Ладо зашагал по лесу, дошел до опушки и стал смотреть, как впереди по крутому пастбищу зеленой лавиной спускаются итальянские солдаты.
Выйди Ладо сюда чуть раньше, он мог бы видеть, как во главе колонны, верхом на лошади едет майор Фьори и указательным пальцем правой руки, одетой в перчатку, пишет в воздухе одно из своих писем доктору Кузани в Феррару.
«Целый день я сегодня наблюдал, как партизанский коммунистический отряд боролся с облавой, организованной националистическими и мусульманскими ордами по приказу Фоскарио и при поддержке батальона итальянской пехоты, которым я командую. У меня разламывается голова от непрерывной стрельбы, уши ничего не слышат от адского грохота, половина моих людей ослепла от сверкающего под солнцем снега — идут и плачут. Всю ночь мне будут мерещиться трупы убитых, которых мне принесли показать. Считается, что я, как майор-людоед, буду бог знает как наслаждаться, их видом. Один двуличный бородач, напоминающий святого с византийской иконы, упросил меня дать ему письменное разрешение схоронить мертвых коммунистов. Я дал — почему бы их не похоронить? Лучше похоронить, чем бросить на растерзание воронам или лисицам. Сейчас жду, что эту мою записку я скоро увижу в руках Фоскарио; он любит устраивать такие штучки: натянуть мне нос, а потом милостиво простить. Вот так я и варюсь в этом соку — то западни, то облавы либо и то и другое. Но не только я — все мы в таком положении. Все ведут облавы друг против друга. Если три банды объединяются, чтобы истребить четвертую, две из них уже договариваются, как напасть не теряя времени на третью. Порой мне кажется, что с тех пор, как существует мир, облава не прекращается, а непрестанно совершенствуется благодаря все новым техническим достижениям. Вероятнее всего, в мире и нет основы для улучшения жизни, а то, что мы называем прогрессом, лишь подтверждает эту невеселую истину…»
У майора Фьори заболела рука, но он продолжал писать — уже нарочно, чтобы отвлечься и сделать вид, будто он не слышит, что кричит ему со скал Ахилл Пари. Как ни в чем не бывало, он спустился к пастбищам и крутым полям села Страна. Ободренные присутствием итальянских войск выползли прятавшиеся по ущельям мусульмане с женами, детьми и скотом и потянулись к домам, неся узлы и подгоняя лошадей, груженных мешками с зерном, шерстью и медной посудой, которую прятали в ямах. Жалкий народ, жалкая защита, на которую он полагается, подумал Фьори и, обернувшись, с грустью посмотрел на своих усталых и голодных солдат. Колонна позади него, почти ослепнув от нестерпимого блеска, подавленная страхом, ощетинившаяся винтовками и обремененная ранцами, безмолвно катилась вниз, бежала сломя голову, спотыкаясь и скользя. Солдаты стремились как можно скорей уйти подальше от соснового леса, от леса вообще и засветло добраться до шоссе.
— Ушли наконец, — сказал Шако. — Теперь и мы можем трогаться.
— Не хочется никуда идти, — сказал Ладо. — Можно бы и здесь дождаться ночи.
— Здесь нельзя.
— Почему нельзя? Что они нам сделают?
— Если еще простоим, раны охладятся. Пошли!
Говорит «пошли», а сам ни с места, и ему не хочется двигаться. Перед ними холмик, что за ним, не видно. Если лес и овраги — они спасены; но там может быть и голая поляна — полигон для установленных наверху пулеметов, тогда трудно будет выбраться… Наконец, собравшись с духом, Шако побежал к холмику. Его тотчас обнаружили, словно только его и ждали, и, точно взбесившись, за ним погналась пулеметная очередь. Пули взрывали под снегом землю, вверх летели комья и колючки, на солнце они казались красными, как кровь, как клочья мяса. Ладо, пораженный, смотрел и диву давался: «Сколько же ран получил Шако? И откуда у него столько сил все еще бежать? Держится, пробежал как ни в чем не бывало! Теперь и мне пора…»