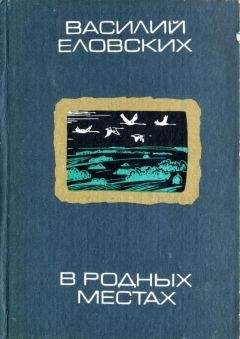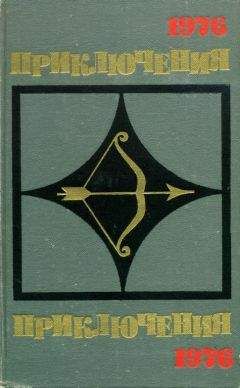Василий Еловских - Вьюжной ночью
— И тут успели насвинячить, — сказал дед, нервно качнув головой.
Все трое стояли на берегу.
— Ну, че не пьете-то? Просили, дак пейте давайте. Пейте, пейте! — Деду хотелось посмеяться, но не смеялось — он, видать, устал, голос напряжен.
— А оно глубокое, дедушка? — спросил Колька.
— Еще бы! Помню, когда я ишо парнем был, так двое наших боктанских пыталися измерить. Взяли длинную веревку. И привязали к этой веревке камень. Отъехали на плоту куда-то к середине и — бултых. Но, грит, так и не достали дна.
— А надо бы на шпагате, — сказал Санька. — Много ли веревки-то возьмешь.
— А лучше всего на суровой нитке, — добавил Колька. — Взять целую катушку и привязать гайку.
Снова ехали, все вниз куда-то, вниз, пока не уперлись в широкий овраг, откуда выглядывали кудрявые верхушки сосен и елей. Это был провал между гор, на дне которого чернело болото, покрытое грубой, как кожа, травой и мягким, будто резиновым, мхом. Дед сказал, что позапрошлым летом тут, в овраге, — он тянется с версту, аж до самой Чусовой, — где-то в чащобе ягодницы видели волчицу с волчатами.
По пути попало еще одно озеро, точнее, озерцо, светлое среди светлых березок. Потом начались покосы, за покосами — пал с терпким тревожным запахом и наконец показалась Чусовая со своими каменными скалами. У брода остановились. Сбросив сапоги и брюки, Санька зашел на мель и начал искать раков, вглядываясь в дно реки и приподнимая камни. Способ ловли у него до крайности прост: ищет, быстро и незаметно хватает рака за спинку. Поймал одного и бросил Кольке на берег. Поймал другого.
Рак, он тоже не дурак и жить хочет: так и норовит схватить тебя клешнями, ворочает ими туда-сюда.
— У, какие злые! — засмеялся Санька. — За это будете брошены в кипяток. И там покраснеете от стыда.
— Да отпусти их, — попросил Колька. — Каких-то махоньких поймал.
— Да, мяса тут и на глоток не хватит, — поддакнул дед.
«Раки как раки», — подумал Санька.
— Суд решил вас помиловать. Ать, два!.. — Санька бросил раков в воду.
«Отчего мне так хорошо? До чего же хорошо!»
Поскрипывает телега. Дед покрякивает, покуривает, не обращая ни малейшего внимания на чусовские красоты.
ГЛИНЯНЫЙ СОЛОВЕЙ
А годы шли. Два наших дружка подросли. Поумнели. И уже новые радости и печали приходили к ним.
…Колька сидел на берегу Чусовой, свесив над водой ноги в сизых от пыли и засохшей грязи сапогах, вяло бросал комочки земли и думал о чем-то. Берег высок, обрывист. После обильных августовских дождей река поднялась, угрожающе вспухла и замутилась, волны глухо бились о берег, и глыбы рыхлой земли то и дело бухались в воду. В береге образовалась огромная ниша, над которой нависал дернистый козырек. Он мог обвалиться, но Кольку это не пугало.
Приближался хмурый вечер, от реки тянуло болотной сыростью и неуютной прохладой. В такую пору только б дома сидеть, в окошко глядеть да книжки почитывать. Но Колька сидит, упрямо сидит.
Он не заметил, как к нему подошел Санька и, обхватив за плечи, повалил, захохотав громко, совсем по-мужичьи. Колька, болезненно скривившись и глотнув слюну, снова сел.
— Смотри-ка, какой он. Ты че это?
Ведь Санька только на полгода старше дружка, но куда более сильный, плечистый, с крепким затылком (не затылок — каменная глыба). И на целую голову выше Кольки. Растет прямо не по дням, а по часам. И какой-то драчливый стал. Может драться просто так, безо всякой причины и безо всякой злобы; налетит — и пошло. Расквасит двум-трем мальчишкам носы, бывает, ему расквасят, и идет после того довольнешенек, ухмыляется. У него разорвано ухо и шрамы на щеках. После неудачной драки он дня три приходит в себя и тогда бывает тих и покладист. Но потом опять ввязывается в какую-нибудь драку.
— Чего, спрашиваю? Дома наподдавали?
Нет, не дома. После обеда вздумал Колька на реку сходить, поудить. Шагает с удочками к широкой заводи, где жирные-прежирные чебаки клюют. Довольнешенек. Посвистывает. Видит: у тальника девчонки бегают, мячик бросают. В тальник корзинки с грибами поставили. Возле девчонок коротконогий крепыш Яшка-музыкант крутится. Музыкантом его прозвали за то, что бойко наигрывает на балалайке и мандолине.
У Кольки сразу испортилось настроение, и ноги стали как деревянные, будто на ходулях ходит. Яшка часто пристает к Кольке с насмешками. Он, кажется, совсем не способен говорить нормально. На губах ехидная улыбочка. Со всеми такой. Ребятишки не любят его. А Колька особенно. Яшка больше всего изводит насмешками Кольку. Наверное, потому, что Колька тих и застенчив. С годами он стал еще более застенчивым. Силенка у него, правда, есть, может, даже побольше, чем у Яшки, но ему почему-то кажется, что в драке каждый его победит. Никогда не дерется и боится боли. А разве драка бывает без боли.
Сегодня Яшка был что-то слишком уж весел; кидая мяч, он даже слегка взвизгивал от удовольствия. Девчонок было четыре, две учились вместе с Колькой. Одна из них — красавица и хохотушка Лида — сидела на соседней парте. На Лидку заглядывались многие, а Колька пуще всех. Девчонка вся какая-то светлая — и лицо, и волосы, и глаза. Даже платья светлые. У него немели ноги и отнимался язык, когда он начинал разговаривать с нею. В классе то и дело косил на девчонку глаза и дома все время думал о ней. Возле нее хотелось Кольке быть таким смелым, таким веселым, таким… Он даже не знал, каким еще. При ней ходил он, небрежно покачиваясь, руки в карманы и кепка набекрень, дерзил учителям, старался перекричать ребят и закатывался от хохота безо всякой причины. Даже самому потом становилось неловко, стыдно.
Лихо помахивая удочками и посвистывая, Колька глянул на Лиду один, второй, третий раз и свернул в сторону.
— Эй, подожди-ка! — крикнул Яшка.
Колька будто не слышал.
— Во драпает, только пятки сверкают.
Это уж было слишком. Колька остановился.
— А у меня нету времени с вами тут…
— Да подходи, подходи. Куда ты?
В голосе Яшкином Колька уловил что-то нехорошее и буркнул:
— Рыбачить иду.
— Иду — со лба проведу. — Яшка с противным смехом ткнул пальцем в Колькин лоб.
— Отстань!
— Отстань — затылок достань. — Яшка царапнул ногтями Колькин затылок.
Колька молчал, сдерживая слезы. Он силился показать, что принимает все это за пустяковую шутку — дескать, ты со мной шутишь, а я с тобой, — и даже пытался улыбнуться.
— Молчунам даем по носам.
Не дожидаясь, когда ему дадут по носу, Колька побежал от Яшки, бормоча с дрожью в голосе:
— Да ну тебя!
Колька был донельзя обидчивым. Даже пустячные обиды (другой и за обиду-то не посчитал бы) помнил подолгу. Неприятностей всяких на его долю перепадало много, и не удивительно, что Колька часто был в дурном настроении.
Он не стал рыбачить — что-то не клевало (в такую погоду вообще плохо клюет), бродил по городу, мел во дворе, колол дрова (со злости лучше работается) и снова приплелся сюда, на берег.
Ничего страшного не произошло вроде бы. Ну, отступил. Что ж такого, и храбрые, бывает, отступают. Ну, чуть-чуть не заплакал. Ведь слез никто не видел, только сам он знает, что чуть-чуть… А голос!.. Голос противно дрожал. Как у жалкого труса. И частенько так. Почему-то у других голос не дрожит, а у него дрожит. Противно. По-бо-ял-ся! И не кулаков Яшкиных (он не дерется, а только дурачится). Не хотел смешным показаться, а был смешон. Яшка что-то выкрикивал вслед ему, а Лидка весело смеялась. Она смеется звонко, красиво, знает это и — понятно — ищет причин для смеха.
«А ну их всех к черту!»
Временами он вроде бы успокаивался, но, вспоминая смех Лидкин, снова начинал сердито болтать ногами над водой.
Конечно, он рассказал Саньке только часть этой истории, Колька ко всему прочему был еще и скрытен. Но дружку было достаточно.
— Ясненько! — Зеленые глазенки у Саньки весело блеснули. — Так! Пошли, счас наподдаем ему. Вызовем в заулок и наподдаем.
У Яшкиного дома широкий палисадник, в палисаднике густо растут, переплелись сирень, черемуха, рябина — даже окошек не видно. Но слышно, как кто-то тяжело ходит там, в доме, видать, окна открыты.
— Яшка! — крикнул Санька. — Выдь на улицу.
— А зачем тебе он? — послышался женский голос откуда-то из глубины избы.
— Побегать надо, теть Шура.
Возможно, голос у Саньки был не тот — с фальшивинкой, и это насторожило женщину. Вторую фразу она проговорила зло:
— Нету его.
— А где он?
Молчание. Когда ребята уже пошли, женщина крикнула:
— В клубе должен…
Заводской клуб двухэтажный, с двумя обшарпанными колоннами и длинным балконом. Он всегда открыт, и всегда в нем люди. Сейчас из громадных — не меньше дверей — окон слышался говор, хохот, пение и звуки настраиваемых струнных инструментов, раздражающе резких, как бы недовольных.