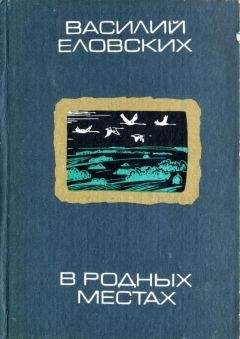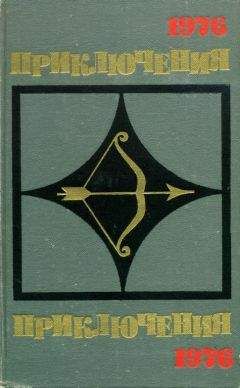Василий Еловских - Вьюжной ночью
А дальше так было. Прибежал Митька — деревня-то рядом. И мы поехали на телеге. Гнали, как на пожар. И еще два-три соседа прибежали. Взвалили его всем гуртом на телегу. Привязали покрепче к телеге той. Едем, значит, и радуемся. Довольнешеньки. Болтаем о том, о сем. А он возьми да и очухайся. И как заревет. Мать моя родная! Лошади, а их было две, оборвали постромки и убежали черт те куда. Только дня через два нашли их. А медведя пришлось застрелить.
Дед Андрей — мужик особый, его хлебом не корми, только дай о чем-то поговорить. Может, маленько и приврал, тут дело темное.
— Раньше-то в лесу кругом следы звериные были. А щас, окроме сорок да галок, ниче не увидишь. Эт-та племянница из Воробьевки наведывалась. Так, грит, и там уже ни медведей, ни волков, ничего этого нету. А помню… В девяносто третьем году дело было. Один волк ночью к свояченице в хлев забрался…
— Так тебе чего, волков и медведей не хватает, и че ли? — удивился Василий Кузьмич.
— Пожалуй, что не хватат, парень. С имя как-то веселей.
— Нашел веселье, — хохотнул Василий Кузьмич. — Надо же!
— Уходят звери, — вздохнул дед, будто не слыша, что говорят мужики. — Весь белый свет перевернулся.
Костер потухал. Тлели головешки. Звезды крупнели, белели и все крепче прокалывали небо.
Замерла тайга.
Назавтра перед обедом дед Андрей поехал домой, прихватив с собой Саньку с Колькой; они со старухой уже все сделали — скосили, просушили траву и сметали в зароды, которые получились, как всегда, ровные, аккуратные — картинка, не зароды. Старуха еще утречком уплелась в Боктанку, решив по пути посбирать черники.
Весной дед купил у таборных цыган старого мерина (на молодого не хватало денег) и не промахнулся: лошаденка была еще ничего, крепкая. Летом он много работал на ней, на покосе ей тоже досталось, и сейчас она идет, изредка спотыкаясь. Все трое сидели на телеге, которая была так же стара, как и лошадь, и потому сверх всякой меры громыхала и тряслась.
— И зачем ты купил такую лошадь? — сказал Санька. — У нее вон даже ноги заплетаются.
— Если б заплетались, я б вас ни в жись не посадил. Кажна лошадь должна когда-то спотыкаться.
— Обманули тебя цыгане, — хихикнул Санька.
— Кто кого.
— Тогда стебани ее кнутом-то.
— Ниче… Не на пожар едем.
— А если тяжело, я слезу, — проговорил Колька.
— Сиди! — машет рукой дед.
Дорога тянется под уклон, все по лесу, изредка попадаются полянки, луга, на которых где-то скошена трава, где-то нет, стоят копешки, зароды.
— От лодыри! — дивится дед. — И че не косят? Трава-то перестаивает. Из нее ж ремни будут.
— Как это? — не понял Колька.
— А так! Вот ежели ты возьмешь молоденький огурчик — одно дело, а ежли желтый, жесткий — друго. Скока ден ведро было. А теперь тока дождей ожидай. Лягушки он как квакают. Это к ненастью они.
— Ври! — не поверил Санька.
Грубо сказал. Но дед не обидчивый.
— Всякая животная лучше нас все это чувствует. Так что ты не тае… Даже пауки, и те. Глядел я давеча. Будто подохли в паутине-то своей. Значит, жди ненастья. Помню, ишо, отец покойный втемяшивал мне… Однажды спрашиваю: «Че это коровы так здорово мычат?» Их пастух пригнал, а они только и знай: орут и орут. «К ненастью, видно». Ненастье чувствуют даже стрижи. Муравьи, и те…
— А муравьи-то как? — дивится Колька.
— К себе в кучу муравейную улезают.
— А ты терялся в лесу? — спросил Санька.
— С чего это?
Деду было непонятно, как можно плутать в лесу: он знал все деревни и горы, все речки, озера и дороги на десяток верст вокруг, а возле Боктанки — даже тропинки, даже поляны и лужайки.
Дорога травянистая, с чуть заметными колеями, сплошь обсыпана сосновыми шишками и какая-то игривая: туда вильнет между соснами, сюда вильнет, порой вроде бы прячется даже, так что не сразу и увидишь. Кольке кажется, что у каждой дороги свой характер. У этой веселенький и добрый. А вот, к примеру, у Пермской, которая проходит прямо через Боктанку, определенно злой, она широкая, пыльная, в буграх и ямах вся — одно горе, а не дорога.
А Санька думал свое. Он думал: уж тут дед Андрей не соврет, и в самом деле вот-вот заненасит. Санька только что понаделал удилищ (вот они, на телеге лежат, травой прикрытые, целых пять штук), а дома, перед отъездом на покос, из сосновой коры выстрогал с десяток поплавков и раздобыл (в обмен на перочинный ножичек с поломанным черенком) кучу волос из лошадиных хвостов. Из них получаются прелесть какие лески, если, конечно, умеешь как следует связывать волоски. А Санька умеет. Конечно, леску можно сделать и из белой нитки, но это уже не то, с такой леской рыба совсем худо клюет, она ведь тоже не дура и, наверное, видит белую нитку. С ниткой рыбачат только олухи.
И крючочками маленькими Санька запасся. В Чусовой хоть и полно рыбы, но все больше мелкая.
— Лови его! — вдруг заорал дед и, сунув четыре пальца в рот, резко свистнул.
От кустов, что возле дороги, махал через лужайку длинноухий зайчишка.
— Лови его, мошенника! — опять закричал дед и радостно глянул на ребятишек. — Это он к Черному озеру побежал.
Черное — самое большое озеро в округе. Глухое тут место, лес кругом, камыши, валежник да дикие утки. Покрытая вечной рябью от горного ветра вода выглядит темной, отсюда и название — Черное. Вода в озере, конечно, не такая вкусная, как в Чусовой, но пить можно.
— А правда, что в Черном змея живет? — спросил Санька. — Будто плавает… вся в воде, тока башка кверху. И зырит.
— Не знаю, — равнодушно отозвался дед. — Может, так, а может, и не так.
— Дедушка, а я вчерась настоящую змею видел, — хвастливо проговорил Санька. — Иду это за водой, а она у тропинки лежит. В кармане у меня шпагатик был. И я петлю сделал. Думаю, загоню-ка ее в петлю эту и унесу, Кольке покажу. Взял палку и начал подгонять. А она не идет.
— Да рази пойдет она те в петлю, — засмеялся дед. — Кто ж добровольно в петлю идет. Санька ты, Санька!
— Ну, а потом ей, видно, надоело. И стала глядеть мне в глаза. Я гляжу, и она глядит. Не мигая.
— А чем она мигать-то будет? — опять хохотнул дед. — Ну и бестолочь же ты, Санька.
— Дря-янно так это глядит. И раз мордой своей в мою палку. И, знаешь, здорово ударила. Я опять начал ее подгонять. Но уж она больше не налетала. И под хворост уползла.
Мальчишки еще ни разу не были на Черном, и сейчас им вдруг до смерти захотелось посмотреть на это озеро, о котором столько всякого говорят. Ну, говорят, например, что щуки там чуть не по пуду и черные-пречерные, как головешки. А купаться страсть как опасно, такие водовороты есть — любого утащат ко дну. Старухи, те вообще избегают тутошних мест, даже близко не подходят, считая, что там водится нечистая сила.
— Дедунь! — сказал Колька. — А давай съездим к Черному, а?
— А чего мы там забыли?
— Тут ведь близко.
— Да как это… с версту, наверно. Вон куда переть.
— Поглядеть бы.
— Да мало ли че вам охота. Если бы я делал тока то, что мне охота, я бы вообще ничего не делал. Лежал бы себе и покуривал.
Дед смеется. Неправду говорит.
— Мы с Санькой еще не были тамока.
— Немного потеряли.
Голос у деда чуть насмешливый и непреклонный.
— У меня брюхо болит, — сморщился Санька.
— Это ты пиканами объелся, — сказал Колька.
— Попить бы.
— А может, ишо чего хочешь? — сердито спросил дед.
Где-то далеко долбит дерево дятел. Долбит и долбит, с нудной методичностью, будто заведенный. А рядом в кустах попискивает птичка, нерешительно и печально, видно, жалуется на что-то. Лошадь деловито помахивает хвостом. Густо пахнет кошениной и вроде бы медом еще, — дыши, не надышишься.
Хорошо!
Дед вдруг свернул влево, на косую елань, где уже совсем чуть-чуть проглядывали колеи, то исчезая, то появляясь. Все куда-то книзу едут, книзу, лес темнеет, ветки тальника бьют по голове, иногда больно даже, становится сыровато, глухо и немножко тревожно. Земля пошла уже другая — мягкая, рыхлая, колеса телеги как бы режут ее. Попахивает болотом.
И вот оно, озеро! Большое, странной яйцевидной формы. Мертвая, темная, даже чуть иссиня вода с холодной рябью, будто чернила налиты. И этот тяжелый неживой цвет отражается на тальнике, чьи ветки свисают над водой, на водорослях, кажется, даже на облаках. У кустов — кострище с тлеющими головешками; жердястые березки, пообгоревшие в середине, навалены крест-накрест. Ветки, обрывки газет и какое-то тряпье.
— И тут успели насвинячить, — сказал дед, нервно качнув головой.
Все трое стояли на берегу.
— Ну, че не пьете-то? Просили, дак пейте давайте. Пейте, пейте! — Деду хотелось посмеяться, но не смеялось — он, видать, устал, голос напряжен.
— А оно глубокое, дедушка? — спросил Колька.
— Еще бы! Помню, когда я ишо парнем был, так двое наших боктанских пыталися измерить. Взяли длинную веревку. И привязали к этой веревке камень. Отъехали на плоту куда-то к середине и — бултых. Но, грит, так и не достали дна.