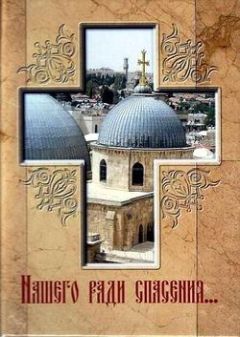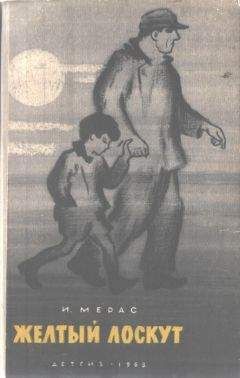Юлиан Шульмейстер - Служители ада
Работницы фабрики Шварца занимают два больших дома, соединенных двором. В комнате Фиры — одиннадцать женщин и четверо скрытых от смерти детей. По негласному распоряжению Шварца, в блоках фабрики не разыскивают нелегальных детей, ставших дополнительным стимулом для матерей в непосильной работе. Не только для матерей — для всех жительниц комнаты. И они спасают детей, Фира в этих заботах нашла утешение.
Работницы фабрики разделены на две смены, каждая смена работает по двенадцать часов. Места на нарах тоже разделены на две смены, на них спят по очереди. Ровно в четыре утра встает первая смена и под веселую музыку фривольной немецкой песенки «Роземунда» марширует на фабрику.
Немецкий фабрикант Шварц справедливо разработал расписание смен, позаботился о своих бесплатных работницах. В пять утра первая смена приступает к работе, в семнадцать — заканчивает. У работниц достаточно времени для своих женских дел и чтоб выспаться. Вторая смена приступает к работе в семнадцать часов, к шести утра — уже дома. Целый день имеют для сна и домашних забот. И питание Шварц организовал справедливо. Кормят, конечно, только тем, что положено еврейкам, но дают сполна, порядок строжайший. Обо всем герр Шварц позаботился, только не понимает, почему они, неблагодарные, так мрут. Не обижает, бережет их, должны добросовестно отрабатывать до запланированного последнего дня. Недалек этот день, но каждый час должен приносить прибыль. Не станет евреек — уедет из Лемберга. Ни к чему заново начинать, подготавливать новых работниц. Труд украинок очень дешевый, но все же подороже еврейского. Позаботился фюрер, в фатерлянде хватит украинок, под надзором немецких надсмотрщиц будут еще лучше работать.
Не знает Фира планов герра Шварца, каторжно трудится с пяти до семнадцати и с семнадцати до пяти. Остальное время отсыпается и помогает Рахили кормить и выхаживать двухгодичную дочку Эсфирь. Рахиль не сестра, только тезка сестры. Эсфирь родилась раньше племянницы, когда в гетто еще разрешалось рожать. Помогая Рахили, Фира думает о любимой сестре, утешается тем, что добрые люди так же нянчат племянницу. Стала Фира второй матерью малютки Эсфирь. Когда Рахиль дома — сама нянчит дочку, когда уходит со своей сменой на фабрику, Фира приступает к материнским обязанностям.
В тот вечер, когда пришел Фалек, Фира уже свои часы отработала. Разглядывают женщины незнакомого визитера, посторонние мужчины сюда не заходят. У двух женщин уцелели мужья, у одной — брат.
Рад Фалек свиданию с Фирой и смущает присутствие женщин — полураздетых, спящих, занятых своими делами.
— Может, выйдем в коридор? — предлагает он Фире.
— Выйдем! — соглашается Фира. И ей хочется без посторонних побеседовать, вспомнить безвозвратное прошлое — сыновей, сестру Рахиль, ее мужа, детей, даже плохого соседа, ставшего мужем. Вышли. На руках у Фиры — Эсфирь, прижалась к груди, теребит волосы.
— Чья эта прекрасная девочка? — разглядывает Фалек ребенка.
— Рахили!
— Сестры! — обрадовался Фалек, что жива его «крестница». — Надеюсь, все в порядке у Певзнеров?
— Это дочка соседки Рахили, — безучастно ответила Фира. — Не знаю, что с Певзнерами, не хочу зря терзаться. Какая разница — вчера, сегодня или завтра, один конец.
— Надо жить и дожить до победы, — взволнованно говорит Фалек и думает: «Смог бы перенести столько бед, сколько выпало на Фирину долю?!».
Пообещал еще раз наведаться, попытается узнать о судьбе Певзнеров.
Как всегда, в пять утра отправилась первая смена на фабрику. Изможденные до последней крайности узницы маршируют под веселую музыку «Роземунды», ставшую маршем фабрики Шварца. Фира в мыслях вернулась с работы, нянчит малютку Эсфирь.
Закончилась музыка, жилые блоки фабрики Шварца окружили гестаповцы и полицаи. Бегают по комнатам форарбайтерин, носится по этажам обер-юдин, сгоняют всех работниц во двор: «Аппель! В баню, девочки».
Хорошо бы в баню, не помнят, когда по-настоящему мылись, — но зачем появились полицаи, почему окружают дома?! Прячут женщины детишек в тряпье, хотя и знают, что там их не спрятать. Боятся оставить детей и еще больше боятся остаться с ними. Ворвутся обозленные заминкой гестаповцы и полицаи, тогда не останется надежды.
Прижала Рахиль к груди доченьку и не знает как быть. Детишки постарше понимают, что надо лежать и молчать, — а как уразумеет это Эсфирь? Должна уразуметь — ведь она дитя гетто. Надо оторвать дочь от сердца, надо спешить: вот-вот нагрянут гестаповцы с полицаями.
— Солнышко ясное, доченька ненаглядная, последнее мое утешение! Лежи тихо-смирно, как мертвая, не то злые дяди заберут тебя, и никто не сможет помочь — меня угоняют, нет тети Фиры. Если даже сделают тебе больно — лежи, моя умненькая, и молчи.
Прикрыла Рахиль тряпьем плоское тельце — ничего не заметно на нарах. Прошептала молитву и вместе со всеми спустилась во двор.
Выстроена смена, вокруг полицаи, эсэсовцы и собаки, В блоках фабрики Шварца начался обыск. Волокут детей, гонят тех, кто постарше, к женщинам, маленьких и младенцев кидают в кучу на середине. Не видят матери направленных на них автоматов и винтовок, рвутся к детям.
Скомандовал унтершарфюрер, прогремел залп. Лежат в крови матери и дети.
— На колени! — орет унтершарфюрер живым. — Быстро, не то всех перебьем. В баню поедете, в ба-аню.
Не все женщины стоят на коленях, уцелевшие матери ползут к мертвым детям, падают, сраженные пулями. Повезло Рахили, успела обнять свою доченьку, одна пуля убила обеих.
Приближаются к блокам грузовики, как из-под земли выросли полицейские еврейской службы порядка. Полицаи загоняют в кузов живых, туда же бросают убитых.
Отработав свои двенадцать часов, первая смена марширует в жилые дома фабрики Шварца. Ее встречает привычная музыка; наполненный нежностью голос поет: «О Роземунда! Ты моя любовь, мое счастье, мое наслаждение»…
Завели женщин во двор, бегают форарбайтерин между рядами, кричат: «В баню, девочки, в баню!».
Глядят женщины на вымытый двор, на первом этаже выбиты стекла, на втором — распахнуты окна, свисают обрывки тряпья.
Окружили строй гестаповцы и полицаи, унтершарфюрер командует:
— Всем на колени!
3.Прочел группенфюрер Катцман донесение штурмфюрера Силлера об убийстве начальника еврейской службы порядка Гринберга и задумался. Начинать надо не с евреев, а с Силлера, та же история, что и с Вильгаузом! Зажрался, нагулял жирок, вот и распоясались евреи. Надо менять коменданта — уже есть кандидат. Гауптштурмфюрер Гжимек блестяще справился с ликвидацией рава-русского гетто, за сутки — четырнадцать тысяч евреев. Хоть и фольксдойч, но железный характер.
19 февраля 1943 года скелеты в тряпье выстроены на широкой заснеженной площади. Стоит перед ними Иозеф Гжимек, новый властелин гетто — худощавый блондин в серой кожанке с висящим на плече автоматом. Сверлит злым взглядом, тонкие губы-змееныши сильно сжаты.
На узников опускается свинцовое небо, гробовой плитой прижимает к земле. Падает снег на обнаженные головы, одежду, люди превращаются в памятники.
— Шапки надеть, вши подохнут! — скомандовал Гжимек и начал обход. Трижды остановился — прогремели три выстрела. Снова стоит перед строем.
— Ваш новый командующий! — указал на стоящего позади начальника еврейской службы порядка Руперта и укоризненно покачал головой. — Мало того, что вы убиваете своих еврейских начальников, вы еще ходите грязными. Так не пойдет! Вам уже не захочется убивать еврейских начальников, не будет больше грязнуль на улицах гетто. Интересуетесь почему? Спросите у этих, — кивнул на три трупа. — Кроме того, мои дорогие евреи, придется взыскать с вас должок за покойного начальника службы порядка.
Второй раз идет Гжимек вдоль строя, за ним вырастает еще один строй. Триста узников гетто отвезли в тот день в Яновский лагерь.
С тех пор не прекращались расстрелы. Встречает Гжимек колонны, идущие на работу или с работы, тщательно проверяет одежду и обувь. Вообразит, что рванье недостаточно чистое — расстреливает, покажется грязной ветхая обувь — тоже расстреливает. Заметит на тротуаре соринку, дворнику больше не жить. Раскачивается в петле труп бывшего дворника, свисает в шеи доска с надписью: «У меня было грязно».
В своей вилле на Замарстыновской Гжимек тоже следит за «порядком», приспособился стрелять из окна по прохожим.
Беспощадно искореняет Гжимек недозволенное снабжение гетто. До него на улочках, прилегающих к гетто, женщины Львова поджидали колонны идущих на работу или с работы евреев, незаметно передавали пакетики — хлеб, мармелад, жиры, вареный картофель. Одни бескорыстно делились последними крохами, потерявшие совесть и стыд золотом измеряли свою жалость и свою доброту.