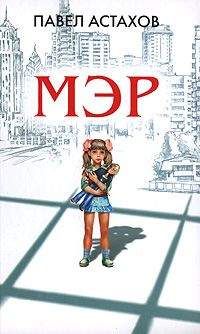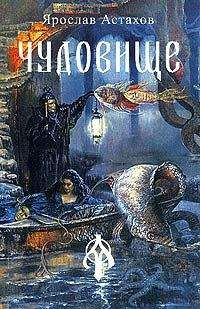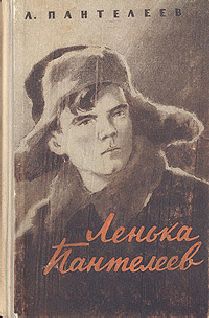Лёнька. Украденное детство - Астахов Павел Алексеевич
В общем, можно сказать, что осень в жизни Лёньки и его семьи всегда была очень благодатным и сытным временем больших забот и массовых запасов. Наступившей осенью им не удалось сорвать и заготовить ни одного гриба, ни ягодки, ни орешка.
Проснувшись от резкого толчка на одном из стыков или поворотов дороги, Лёнька оглядел полумрак вагона. Вокруг все спали. По крайней мере, ему так показалось. Он приподнялся, встал на четвереньки и шустро нырнул в левый дальний угол, где стал отчаянно перекапывать солому. Он кое-что искал и не мог найти. За его действиями внимательно наблюдали не спавшие девчонки Галя и Настя. Объединившись в лагере, они стали настоящими подругами и даже причесывали друг друга, заплетая косички. Вплоть до последней остановки они, несмотря на все злоключения и неудобства, аккуратно укладывали другу прически по утрам. После тотальной стрижки всех пассажиров, невзирая на возраст и пол, они, как и другие девочки и женщины, прятали свои лысые беззащитные головки под серые косынки.
Но сейчас девчонки не спали и хитро переглядываясь, смотрели, как в призрачном сумраке мальчишка к неудовольствию и под ворчание полусонных женщин продолжал расчищать днище вагона от наваленной соломы, сердясь потому, что никак не находил того, что искал. Поезд давно набрал полный ход и мчался в осенней ночи, усыпив своим монотонным перестуком всех невольных пассажиров. В пятом вагоне продолжались странные поиски в соломенной подстилке. В очередной раз, когда Лёнька-искатель вынырнул из-под копны соломенных обломков, они дружно прыснули. Мальчишка испуганно оглянулся и увидал две хитрые мордашки в платочках на расстоянии протянутой руки. Подозрительно глянул на них и приступил с расспросом, грозно хрипя:
– Эй, вы, хохотухи! Чо ржете? А ну, признавайтесь, вы, что ли, утянули мой схрончик? Верните по-хорошему!
– Ну, а если и мы, то что нам за это будет? А, Лёнь? – тоже шепотом подтрунивали девчонки. Они явно знали что-то о том, что так усердно искал парень и никак не мог найти. Девочки переглянулись, и Галина вытащила из кармана своей лагерной курточки сверток-тряпицу, в которой был завернут какой-то продолговатый предмет. Она показала сверток Лёньке и спрятала его за спину:
– А чем докажешь, что это твое? А?
– Чем-чем… мое это, и всё! – насупился мальчишка и двинулся в их сторону.
Вагон качнулся, и он, не удержавшись, смешно взмахнул руками и плюхнулся на живот, нырнув своей лысой головой в солому. Галя и Настя засмеялись. Жгучая обида поднялась в нем, закипела и перекрыла дыхание. Он беззвучно заплакал. Собрал все свои мальчишеские силы, откашлялся и сердито прошептал через налипшую солому:
– Отдайте, девки. Не шуткуйте! Через эту штуковину уже столько несчастий случилось… не гневите… отдавайте по-хорошему.
– Да ладно тебе, Лёнь. Мы ж пошутили, – смилостивились девочки, уже готовые пойти на мировую.
– Эту вещь я, можно сказать, в бою добыл. Я ж немцев потравил, что к нам в хату вперлись и жрали суп из петуха. И мамку обидели… А когда они повалились и начали пулять из пистолетов, я и утянул ее. А потом тот мордастый, что у мамки ее отобрал, когда нас привезли, сгинул. Мне мамка рассказала. И еще она мне говорила, что и Люська та добрая и веселая, что нам помогала, через нее погибла. Ну, а главное доказательство – вот оно… – Мальчишка засунул руку в левый карман и вывернул его.
Вместо кармана там зияла огромная дыра. Ее было плохо видно, но девочки наклонились и почти вплотную рассмотрели ее. Оказалось, что Лёнька оторвал свой карман, чтобы завернуть в него трофей, и спрятал его под слой соломы перед самой высадкой на станции, где их постригли и продезинфицировали. Он как чувствовал, что одежду отберут и снова обыщут. Во время обмена одежды после ее прожарки он без труда отыскал именно свои штанишки, так как оставил надежную примету – оторванный изнутри левый карман.
Девчонки виновато опустили глаза. Им, кажется, даже стало стыдно за похищение Лёнькиной вещицы, доставшейся ему таким трудом. Смущенная Галина придвинулась к нему еще ближе, присев совсем рядом, и протянула сверток:
– Не обижайся, Лёнь. Держи.
– Угу. – Он принял тряпку и развернул. Даже в мутном сумраке вагона стальной бок инструмента загадочно и маняще сверкнул. Галя и Настя, открыв рот, во все глаза смотрели на губную гармонику.
– Лёнь, а Лёнь? Можно в нее подудеть? – прошептала Настя.
– Подудеть? Конечно, можно, но только ты сейчас всех перебудишь. Давай потом. Я тебе обещаю, что дам поиграть. И вообще… – он на мгновение задумался, – хочешь, я тебе дам ее на всю ночь у себя подержать? На, держи! До завтра, до утра только.
Восторженная и благодарная Настя прижала к себе гармонику и бережно завернула в кусок Лёнькиных штанов. Они обнялась с Галей и, что-то тихо шепча друг другу, укрылись в своем углу рядом со спящей мамкой. А Лёнька повздыхал, поворочался, прислушиваясь, не крадется ли кто еще к нему, прижался спиной к спящей матери и осторожно достал из потайного кармашка, проделанного в поясе брюк, свой медальончик. Он не видел образа, но пальчиками чувствовал каждый изгиб и выпуклость на барельефе Богородицы с Младенцем. Во время помывки и прожарки одежды ему пришлось в который раз пускаться на хитрость и прятать вещицу за щекой во рту. Он держал ее за крепко стиснутыми зубами и боялся только одного – что заставят открыть рот для осмотра и в этой ситуации придется его глотать. Другого варианта он не придумал. Но все обошлось и идти на такие экстренные меры не пришлось. После получения обратно одежды он вновь затолкал подарок ссыльной женщины в специально проделанную дырочку.
Лёньку никто и никогда не учил молиться, напротив, про это постоянно твердили в школе как про нечто совершенно запретное и недопустимое. Он не знал ни одной молитвы и просто не понимал, как надо и можно просить Кого-то Невидимого и Неведомого о чем-то конкретном. В деревне были старики и старухи, которые каждое воскресенье ни свет ни заря отправлялись в дальнее село, где чудом сохранилась церковь. Возвращались они оттуда только после обеда, но почему-то, счастливыми, а не усталыми, и со светлыми добрыми лицами. Сам Лёнька только два раза был в церкви в районном городишке, куда ездил в воскресенье с матерью на базар. Да и то украдкой. Заглянул, испугался и сбежал, чтобы в следующий раз так же прошмыгнуть внутрь, постоять, затаив дыхание, в торжественном полумраке сладкого ладанового дыма, и удрать от странного и непонятного ему чувства, от которого хотелось взлететь ввысь и никогда не касаться земли. И в этом тоже была какая-то странная несуразность: он с мамкой тогда в воскресный день ехал на рынок, а старики шли – в храм Божий.
Но одно знал он точно и очень твердо и никому никогда не рассказывал, что его крестили в раннем детстве, практически сразу после рождения. Но мамка боялась про это ему сказывать, а вот папка много раз говорил. А сделали так, потому что после рождения он сильно заболел. Совсем еще был крохой, но подхватил воспаление легких. Лежал в забытьи и помирал тихонько. Фельдшер только руками развел, когда наконец его вызвали, и он мальца осмотрел:
– Ничего не смогу сделать. Тяжелый случай, да и пацан слишком мал. Единственное, что могу посоветовать… так это… покрестите его.
Затем он немного помедлил, потоптался на пороге, поморщился и, понизив голос, наклонился к мрачному Павлу Степановичу:
– И еще, Павлик, ты это… не говори никому, что я посоветовал крестить пацана. Я ж партейный… А от крещения так оно хуже мальчонке не будет точно. А там, глядишь, и поможет.
Помогло. А потому батя, рассказывая эту историю, добавлял, что у него есть ангел-хранитель, защищающий во всех бедах. И он-то его после крещения и спас. Лёнька даже наглядно себе представлял этого ангела-хранителя. Большой такой могучий дядька с отцовским бородатым добрым лицом и ружьем в руках. За спиной огромные мощные крылья и обязательно кинжал за поясом, на котором к тому же и патронташ висит с полным боекомплектом.