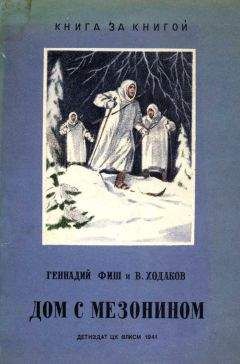Иван Меньшиков - Бессмертие
«Из далекого города Москвы приехала русская учительница Тоня. Она любит ненцев. Она им рассказывает правду о Ваське Харьяге. И тот ее хотел убить. У русской теперь отморожены ноги и лицо, но она ездит по тундрам и учит ненцев правде. Отдавайте ребят в школу. Не верьте Ваське Харьягу. Не прячьте детей от русской девушки, потому что она им хочет только хорошего».
Но почему-то люди верили больше первой молве.
Тоня Ковылева видела многолюдные стойбища, но в них не было детей. Дети были спрятаны. Они перевозились из пармы в парму только для того, чтобы их не увидела русская учительница.
В одном из стойбищ она заметила спящего ребенка.
— Чей это? — спросила она у побледневшей при этом вопросе женщины.
— Это… это не мой… Не знаю чей, — сказала женщина.
Тоня с горечью посмотрела на нее.
— Я знаю — это твой ребенок. Я же хочу вам только хорошего.
Женщина с криком выскочила из чума. Тоня слышала, как ее обступают другие женщины и кричат:
— Приехала хозяйка наших детей, забирает, как своих!
Тоня вышла посмотреть, что там. Она увидела разъяренные лица женщин.
— Ездишь все равно, что безглазая — не уходишь от наших чумов!
— Да, — сказала Тоня, — я не уеду, пока не добьюсь своего. Я не из таких…
И она осталась жить в парме. Долгими сутками она рассказывала пастухам, охотникам, женщинам о Москве, о науке, о Советской власти, о колхозах.
С каждым днем все спокойнее и проще становились ее отношения с окружающими, а молва, как озеро от большой реки, питалась ее речами. Молва несла ее простые и задушевные слова в самые далекие стойбища. Ее встречала другая молва, злобная и слепая. Происходила борьба, но с каждым днем слово правды из уст русской хабени просачивалось все настойчивее и настойчивее в сознание угрюмых, суровых и недоверчивых охотников, рыбаков и оленеводов.
Тоня уже предчувствовала победу. Но поднялся неутомимый хад. Он готов был опрокинуть чумы. Жалобно поскрипывая, звенели, как натянутые струны, чумовые шесты. Северный ветер надул у входа «лебедей» — так назывались снежные сугробики. Вышел хворост, и потух огонь. Стиснув челюсти, думала Тоня о жизни.
Нет, ей не быть победителем. «Пошлите меня туда, где больше трудностей», — вспомнились ее же слова из письма в «Комсомольскую правду».
«Плитка шоколаду, — вспомнила неожиданно Тоня, — плитка шоколаду».
На самом деле, что она будет завтра есть? У нее осталась только плитка шоколаду и ни копейки денег. Она зарвалась. Она слишком далеко уехала от Красного чума!
Ноги в холодных валенках болели. Стараясь забыться, Тоня уснула. Сквозь сон она услышала приезд в парму человека-молвы.
Утром хад стих. Седые космы его еще волочились по снегу и устало опустились на дно долин, чтоб вновь подняться через несколько суток.
Пришел хозяин чума, бывший до этого на охоте, и сказал:
— Уезжай, мы тебя кормить не будем, здесь не столовая. Надо хлеб с собой возить, а не просить у меня, как нищенка.
Тоня смутилась. Ей стало стыдно за себя. Казалось, ее обнажили сейчас перед всем светом и начали издеваться больно и непоправимо. Однако у нее хватило мужества ответить:
— Хозяин забыл о гостеприимстве? Что ж, пусть о нем плохо думают родители, похороненные на священной сопке.
Мужчина опустил взгляд и вышел из чума. Он запряг нарты и дал Тоне Ковылевой большой мешок, полный хлеба и мяса.
— На, — сказал он, — не обижайся. Мне так велели сделать.
— Не надо, — сказала девушка, — русские и на каторге бывали, чтобы принести счастье своему народу. Если нужно будет, я поголодаю, но твой сын научится читать. Ты сам его привезешь.
И она вместе с женщиной — матерью Тагана — поехала к Красному чуму. Всю дорогу она плакала, вспоминая Москву, мать, Костю, уютную конторку фабрики и листочки с фиолетовыми штемпелями: «драп», «бостон», «шевиот», которые она записывала в книге готовой продукции, когда работала учетчицей до отъезда в тундру.
— Не надо, — тихо утешала ее женщина, — всем трудно.
«Уеду. Обязательно уеду», — решила Тоня, въезжая в свое стойбище, посредине которого стояла палатка с красным флажком наверху.
— Здравствуй, Хойко, — невесело поздоровалась она, — я заболела. Не приходи ко мне.
Затопив «времянку», она села за письма. Косте и матери она написала все, что пережила и поняла. Заклеив письма, она посмотрела на тумбочку.
Ильич посмотрел на нее мягким укоряющим взглядом, и Тоня заплакала. Она легла на койку и уснула. Стук в оконце разбудил ее.
В палатку вошли две женщины и мужчина, подталкивая впереди себя испуганных детишек.
— Учи их, хабеня, — сказала одна из женщин, та, что вела ее нарты. — Мы будем жить здесь тоже, и когда узнаем, что Мюс, Тагана и Пайга понравится школа, к тебе приедут все, кто боится знать грамоту.
Вскрикнув от радости, она бросилась к детишкам и начала целовать их чумазые испуганные лица. Родители, польщенные этим, тепло улыбались русской учителке.
С тумбочки на всех этих людей глядел Ильич. Он улыбался.
— Ленин, — указывая на портрет, сказал мужчина, — Ленин. Теперь я все понимаю.
Над миром полярная ночь
В Месяц Большой Темноты подули от моря острые леденящие ветры. И без того короткий день померк.
Однако Тоня Ковылева не замечала этого. Дни и ночи она готовилась к первому уроку. Ей казалось, что от этого решается ее судьба. Она исписала две тетрадки, составляя конспект первой беседы, но чем ближе подходил день занятий, тем сильнее хотелось отложить его на более поздний срок.
Хойко по-хозяйственному разрешил эти сомнения. Он объявил, что первый урок проводить надо так: раздать буквари, и все…
И вот в натопленной палатке сидят дети. Они задыхаются от непривычной жары и тесноты. Палатка переполнена до отказа. Важно расселись седые старики. Они нюхают табак, чихают и ругаются от восхищения. Женщины заняты шитьем.
Тоня вынимает тетрадки и начинает беседу. Она торопится рассказать все, что узнала за свою жизнь.
— Вот беда-беда! — говорит Явтысый. — Все так. Маленькая, а все знает…
Тоня смущенно и неожиданно обрывает свою беседу.
— Вот вам, ребята, буквари. В них все написано.
Взрослые с завистью смотрят на новенькие книги, еще пахнущие типографской краской. Они сдержанно радуются восхищению в лицах детей.
— Гляди-ко, парень. Про нас книга-то! — удивляется Явтысый, показывая Тагана чумы, оленье стадо и нарты на первых страницах учебника.
— Вот лешак, и «мо» нарисован — сучок, и «хо» — береза, и «нохо» — песец. Ишь ты!
Старики одобрительно кивают побелевшими головами.
— Прочти-ко, девушка, что тут написано, — говорит один из них, открывая на середине букварь.
Тоня берет книгу, и наполненный большим счастьем ее голос звенит, как песня:
— Та’ ямбан Хылей мякананда илесь. Нисяда тэхэ’ на мэсь… В течение лета Хылей в чуме своем жил, — читала Тоня, — отец его в оленях был. Хылей лишь с бабушкой в своем чуме остался. Однажды Хылей захворал. Бабушка Хылея шамана позвала. Шаман пришел, шаманить стал. До полуночи он шаманил. Наутро Хылей еще сильнее захворал. Отец Хылея приехал, так сказал:
«Шаман людей обманывает. К шаману идти не надо. Шаманы людей лечить не могут. В больницу идти надо. Болеющего человека доктор вылечивает». Отец Хылея хворающего своего сына к докторам повез. Хылей скоро поправился. Такой плакат сделаем: «Все хворающие к доктору пусть идут».
Тихий плач смял последние слова Тони Ковылевой. Она удивленно посмотрела на слепую женщину, что сидела у выхода из палатки.
— Правда написана, только имена тут другие, — сказал Явтысый, — это про нее. Только она не повезла больного сына к доктору, как я ей говорил. Васька Харьяг пошаманил, а Иванко умер.
— Вот видите… — начала Тоня.
— Подожди, девушка, — поднялся сгорбившийся старик с трясущимися руками, — хабеня это сама выдумала сейчас?
И враз потеплевшие лица мужчин и женщин тронула отчужденность.
Но Хойко насмешливо свистнул и, взяв букварь, прочел то же самое.
— Правда, — сказал горбатый старик, — теперь так.
И вышел из палатки впереди мужчин.
Последними покинули ее дети, бережно прижимая к груди буквари.
Никогда Тоне Ковылевой жизнь не казалась такой интересной, как в эти наполненные тревогой и радостями дни!
Дети сидели на полу, поджав под себя ноги, и на коленях их лежали буквари.
— Сначала мы будем читать вслух. Повторяйте за мной: «хо-мо».
И все нараспев, нерешительно повторили: «хо-мо».
Только курносый Тагана неожиданно сказал по-русски:
— Сук березы.
И все засмеялись.
Тоня тоже улыбнулась.
— Правильно. По-русски это означает сук березы.