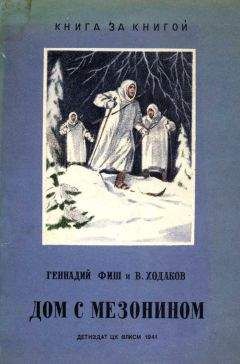Иван Меньшиков - Бессмертие
— Правильно. По-русски это означает сук березы.
Шли дни за днями. Страницу за страницей познавали ее ученики, полюбив учительницу трогательной детской любовью. Вечером они слушали радио и русские сказки. Тайком, чтоб никто не заметил их привязанности, они приносили Тоне подарки: мороженую нельму и свежее мясо.
Но неожиданная тревога омрачила радость Тони Ковылевой.
Веселый Мюс, шалун и забияка, один из самых смышленых учеников, был неожиданно увезен отцом.
Отец, гордый успехами своего сына, поехал с ним по стойбищам, и Мюс, как подобает взрослым, сдержанно и неторопливо читал слушателям шестнадцатую страницу букваря:
К озеру поеду.
Нарты найти мне надо.
Шкуры песца собрать надо.
Хора шкуры собрать надо.
Лончака шкуры собрать надо.
Шкуры увезти надо.
К озеру поеду.
— Это — научная книга, — хмурясь, говорил Семка, отец Мюса. — Эту книгу никто, кроме русской хабени, читать не умеет, а Мюс умеет.
Слушатели цокали от восхищения языками, завидовали Семке и сами посылали детей учиться к русской хабене.
Объехав стойбища, Семка сказал сыну, улыбаясь:
— В книге написано, что тебе много надо. Шкуры песца собрать надо. И к озеру ехать надо. Подумай-ко теперь, парень, что тебе в школу тоже надо. В Красный чум ехать надо. И хорошо учиться надо.
И, уверенный в великом будущем своего сына, он отвез его к Тоне.
А ночь вступила в свои права. Едва заметная светлая каемка на юге пропала, но звезды в ночи по-прежнему были бледны. И только Нгер Нумгы гордо стояла почти над палаткой Тони Ковылевой, яркая и холодная. Лишь иногда ее затмевали сполохи северного сияния. Долгими часами Тоня наблюдала за тем, как они рождались и умирали.
Нежно-сиреневый круг поднимался от океана и, пламенея с каждой минутой, переливаясь радугой, мерно качался над горизонтом. Он доходил до зенита, до Нгер Нумгы, и, став рубиновым или пунцовым, медленно таял, умирая.
Но проходило полчаса, и над океаном бесшумно взрывались два огненных гейзера, их сменяла арка, палево-золотистый конус — бархатный занавес, за которым находилось царство вечной темноты.
В такие минуты Тоне казалось, что она чувствует дыхание вечности, и мир ей становился до боли мил и чудесен.
— Хорошо, — шептала она и засыпала крепким счастливым сном.
В одну из подобных ночей пришел к ней Хойко. Он долго слушал патефон, а потом сурово нахмурился и сказал с важностью:
— Я поеду в Красный город, хабеня. Я решил стать учителем. И лучше не отговаривай меня.
Тоня засмеялась. Ее умилила его торжественность.
Хойко обиделся.
— Тебе смешно? У тебя нет мужа, и ты знаешь все на свете, а я не могу жить рядом с тобой. Когда я выучусь, ты будешь не так говорить со мной.
Тоня подошла к юноше и, как тогда, при первой поездке по пармам, крепко обняла его за шею.
Юноша вывернулся из рук девушки. Голос его дрожал от смущения.
— Не надо целовать… Я… тогда… не смогу уехать…
Но минуту спустя он смилостивился.
— Поцелуй. Только раз… и в щеку… чтоб и потом вспоминал о тебе… Ладно?
Тоня с серьезностью выполнила его просьбу. Она подарила ему несколько книг и стопочку тетрадей. Провожая его из палатки, она на прощание вручила несколько писем. Про толстое письмо в синем пакете сказала:
— Здесь написано о кулаках и ограбленном обозе. Отдай его председателю окрисполкома под расписку. Скоро в тундре не будет хлеба. А ведь ты не хочешь, чтоб мы умерли с голоду.
— Не хочу, — сказал Хойко, — я не эксплуататор.
И, пожав крепко Тоне руку, он твердой походкой вышел из чума.
«Хороший парень», — с нежностью подумала девушка. И непонятно отчего вздохнула.
Всю последнюю неделю не стихали острые морские ветры.
Тоня сидела у печки-каленки и с тревогой смотрела в желтое целлулоидное окошечко:
«Неужели не придут?»
Маленький черноглазый Тагана, болеющий чахоткой, круглый и веселый Пайга, подвижной, как волчок, Мюс, угрюмый Сармик — ее ученики — вчера сказали ей, что учиться дальше не смогут, потому что родители уезжают в Усть-Цильму и Архангельск за хлебом и некому пасти стада. У маленького Тагана сильно заболела мать, и она попросила прислать ей шамана, чтоб тот за последних пять оленей спас ее от смерти. А спасти ее мог только хлеб…
Тундра голодала.
«Не придут», — думала Тоня и растирала ладонью виски. У нее все чаще и чаще начинала болеть голова.
В палатку вошел Егор Явтысый.
— К матери Тагана смерть приехала.
— Пойдем к Тагана.
Они пошли между чумов.
В крайнем чуме, у костра, раскинув руки, бредила седая женщина. От болезни лицо ее почернело. Прерывисто дыша, она тихо звала сына:
— Та-га-на… Та-га-на…
Сынишка, сухими глазами уставясь в огонь, левой рукой гладил лоб матери. Он очень хотел есть, но у них вышло все мясо. Они съели даже то, что позавчера дал из своего маленького запаса старый Егор.
— Неужели из города не привезут хлеба и пороха? — тревожно спросил Явтысый. — Если бы порох, я смог прокормить бы всех детей и стариков один. Хлеба ни у кого нет. Молва ходит по тундрам, что в городе тоже голод.
— Неправда, — сказала Тоня, — этого не может быть. И хлеб и порох есть в городе, и твой сын сегодня все это привезет.
«Зачем я их обнадеживаю?» — неожиданно подумала она и быстро вышла из чума. Из серенького чемодана, что лежал в палатке, она достала последний кусок черствого белого хлеба. Хлебная крошка присохла к переплету коричневой книги.
— Горький, — прошептала она и, крепко прижимая хлеб к груди, вышла из палатки.
Голодными глазами дети смотрели на белую булку. Она отломила по маленькому кусочку, дала им и, чтоб не разреветься, побежала к матери Тагана.
Там она размочила хлеб в густом чае и, ложечкой разжав стиснутый рот, накормила женщину.
— Все олени поедены. Капканы стоят далеко. Парни ослабли, товарищ Тоня.
— Помолчите, — умоляюще попросила девушка, — ваш сын сегодня все привезет. Ложись спать, Тагана, я посижу с твоей мамой.
Мальчик отполз от матери и лег на шкуры, сурово сжав губы.
Тоня подбрасывала сучья в костер, и, когда ярко вспыхивало пламя, она с долгой нежностью и сочувствием наблюдала за сводимым судорогами лицом женщины.
Как мечтала эта женщина увидеть сына большим! Месяц тому назад, когда был зарезан последний олень к впереди маячила смерть, она сшила ему длинную малицу, точно на большого охотника. Она расшила ее тоненькими лоскуточками разноцветных сукон, и, когда он надел ее, эту новую малицу, она потрескавшимися сухими губами шептала:
— Вот каким ты будешь, Тагана, когда над твоей головой пройдет три больших ночи.
«Что делать?» — в смятении думала Тоня.
— Когда кончится эта ночь? — прошептала она с тоской.
Женщина тихо застонала и открыла невидящие глаза. Она приподняла голову, точно к чему-то прислушивалась, и вновь упала на подушки.
— Та-га-на… Та-га-на…
Тоня вышла из чума и потерла жестким снегом виски. В морозной тишине ей померещился скрип саней. Она прислушалась. Нет, действительно где-то ехал человек. Явтысый вышел из чума и всматривался в темный горизонт.
— Это сосед едет.
Через полчаса к чумам подъехал низкорослый охотник. Он круто повернул упряжку, и Тоня бросилась к нартам. Они были пусты.
— Мне газету дали только… В городе нет хлеба, — сказал юноша.
У Тони от приступа голодной тошноты закружилась голова. Губы ее задрожали, и она упала в снег рядом с нартами, и какими-то далекими и смутными дошли до ее сознания слова юноши:
— Встретил тадибея, шаманить будет у нас.
Явтысый наклонился над девушкой. Он осторожно поднял ее и увел в палатку. Она зажгла лампу и в полузабытьи лежала до тех пор, пока не вошел Явтысый с газетами в руках.
— Почитай, девушка, зачем хлеба в тундре мало. Война не началась ли?
Тоня подняла воспаленные веки и долго всматривалась в расплывающиеся буквы… Голова болела.
Она просмотрела передовую, и гнев и горечь заполнили ее. В передовице писалось, что руководители окрвнуторга, бывшие троцкисты, мало забросили хлеба в тундру.
— Стрелять их, сволочей, надо! — в исступлении закричала Тоня. — Всех, до одного!
Глухая дробь барабана неожиданно врывается в ее палатку. Она, спотыкаясь и падая, бежит к крайнему чуму. Она отводит полотнище, протискивается среди испуганных охотников и женщин и застывает в страхе.
Вокруг больной, неподвижно лежащей на волчьих шкурах, мечется Васька Харьяг, ударяя колотушкой в пензер.
Оловянные, медные, никелевые пластинки на его одежде звенят глухо и сдержанно. Уши высокой шапки из меха росомахи бьют по его широкоскулому лицу. Узкие глаза полузакрыты, и пламя костра золотыми точками отражается на зрачках. Он поворачивается лицом к больной, плюет через костер и неестественно тихим, отрывистым речитативом шепчет заклинания. Уже пена появилась на краешках его губ. Уже женщины испуганно заскулили, протягивая к больной черные, зловещие, худые руки, когда шаман приник к лицу больной и пензером провел по ее воспаленным губам.