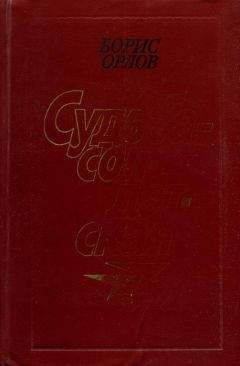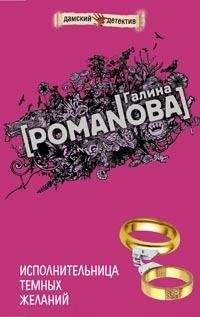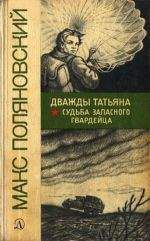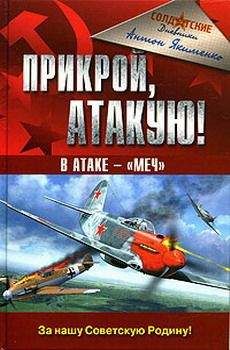Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
— Ты же знаешь, я не выношу пошлости…
— А в чем пошлость, ты, гнусавый праведник? — Иван разъярился окончательно.
— Ну, ну, ты потише! — озлился и я, вступаясь за Виктора.
— Нет, не потише! Меня могут в любой день, в любой час, в любую минуту убить, прикончить, прирезать, как молодого петушка. Я все время на грани… У края. Вот хоть сейчас, налетят самолеты, луна, кругом чистое поле… Каюк нам!.. А я бабу ни разу не пробовал… И мне хочется завыть во весь голос, когда я об этом подумаю. Все, что я читал, смотрел в театрах, вся история человеческой культуры, которую мы худо ли, хорошо ли изучали, так убеждала, так соблазняла, так лукаво твердила, что обладание женщиной — одна из самых больших радостей, дарованных нам естеством. Я готов к этому… А меня бросают на голодную дорогу, на снег под пули, бомбы, снаряды. Не протестую. Война. Все понимаю. Долг, обязанность и прочее. Но есть ли у меня хотя бы обыкновенное человеческое право сказать о своем желании. Могу ли я при случае ухватить, что само в руки идет, без того, чтобы меня не заклевали ошалевшие праведники. Да и то сказать, брюхо, оно всегда свое берет, а на войне тем паче. Вы еще увидите, романтики недозрелые!
— Если бы мы воевали брюхом, ни один человек из нашей роты уже давно не шел бы по этой дороге, — сказал Виктор.
Он, казалось, был совершенно невозмутим и спокоен. Лишь на скулах зарозовела тонкая кожица. Да в глазах появился хорошо мне знакомый заносчивый огонек. Любил он порассуждать, поспорить!
— Ты можешь как угодно обзывать меня, но я не смог бы обжираться и лакать водку, зная, что вот по этой дороге идут сейчас голодные, уставшие до беспамятства люди. Меня бы вырвало. Я не могу лечь с женщиной, если она чужая, если она не моя, если она случайная. Я верю в любовь. Думаешь, потому что я фанатический праведник или романтик, как ты говоришь? Нет, потому что я реалист. Я хочу от жизни настоящей, полной радости. Случайные утехи, подмены, подделки мне не нужны. Они не дадут мне даже простого удовольствия.
Что же касается естества и брюха, то человек, — надеюсь, ты согласишься с этим, — состоит не из одной нижней половины, венчает его все-таки голова!
Виктор, по-мальчишески вздернув голову, победоносно посмотрел на Ивана.
— Ладно! Черт с тобой! Без праведников тоже было бы скучно. Должен же кто-то напоминать нам, что на земле могут существовать монахи и добровольное заточение в монастырь. — Иван засмеялся.
Уж его-то не могли убедить никакие аргументы. У него была своя «программа».
— Знаете, чего я сейчас больше всего хотел бы на свете, — он сладко прижмурился. — Сейчас бы в теплый дом. И в нем чтобы недавно вымытыми полами пахло. И стол с белой скатертью. И на нем самовар. И варенье, и пироги с этакой свежей корочкой. И чтобы занавески на окнах по-лебединому отдувались. И чтобы по комнате этакой павой похаживала сахарная, крупитчатая… В цветастом сарафанчике…
Кончится война, живой останусь, плевать я хотел на все интеллигентские радости и утехи! Мещанского счастья хочу, чтобы перина на кровати, чтобы самовар на столе…
У Ивана даже ямочки появились на щеках от блаженной хмельной улыбки…
Идти было все тяжелее. Мы ведь, кроме всего прочего, несли на себе разобранные 82-мм минометы: отдельно плита, труба, упорные ноги, прицел, и к ним боекомплект мин. Нагрузка увеличивалась на пятнадцать — двадцать килограммов.
Все чаще приходилось делать короткие привалы. И все труднее было вновь вставать, подниматься, двигаться. На этой дороге падали не только лошади. Застревали не только машины. Истощались и силы людей.
На одном из привалов Павел Возницын — четвертый номер моего расчета — отказался идти.
Он лег навзничь, не сняв со спины минометной плиты. Дышал хрипло, часто. Все мы несли ее по очереди. И все так же спиной запрокидывались в снег, плита уходила в него, тело выравнивалось, мягко и вроде не простудишься. А снимать да надевать попробуй-ка такую тяжесть!
Когда скомандовали движение, мы начали вяло, неохотно, недружно подниматься.
— Эх, мамочка, зачем ты меня мальчиком родила! — бормотнул сквозь стиснутые зубы Павел. Сколько раз он говорил эти слова. Они уже не вызывали даже улыбки.
Покряхтывая, он перевернулся на бок, опираясь на руку, попытался встать и обессиленно рухнул в снег.
— Не могу, — сказал он каким-то не своим, отрешенным, звонким голосом. — Не могу, и все.
Он глубоко передохнул, раскинул руки: что хотите, то и делайте. А я готов, и все. Но глаза страдающие, по-собачьи жалобные смотрели на меня.
Я кое-чему научился на этой дороге. Я уже знал, что жалость, даже малейшая капля сострадания, может отнять у человека на исходе последние силы. Она может погубить.
— Вста-ать! — сказал я с такой жестокой властностью, с таким бессердечием, что они изумили меня самого. Я как бы открывал в самом себе такого, какого не знал и не предполагал. Произошло то, что бывает в минуты предельных усилий: психика как бы раздваивается, один стремительно действует, другой же в тебе как будто даже замедленно, со стороны, наблюдает, фиксирует, может, даже осуждает и ничего не может поделать с тем действующим.
— Вста-а-ть! — повторил я и размеренно, холодно добавил: — Тебе же труднее будет догонять.
Я видел, у него еще были силы. Может, даже больше, чем у меня. Но он пожалел себя. И сразу обмяк. Ослаб, лег…
Я готов был на все. Я под дулом винтовки, а поднял бы его. Он должен был идти. У него были силы. Каменея, не отрываясь, не мигая, я смотрел на него с жестоким осуждением и презрением. Он мог еще идти!
И он, кажется, понял, что не будет ни пощады, ни участия. Как он вставал! Всхлипывая, скрипя зубами, приподнялся на четвереньки, уперся руками в колени, качнулся, медленно встал. Пошел, шатаясь как пьяный.
— Люди, люди… Разве вы люди, — бормотал он и плакал. Слезы стекали по щекам, стыли в щетинистой отросшей бороде. Плакал сорокалетний человек с запавшими седыми висками. Отец двух почти взрослых детей. Шутник и весельчак. Плакал от обиды и бессилия.
Я не понимал тогда, что между нами была разница в двадцать лет!
— Таким серу…м на теплой печке брюхо тешить, а не воевать, — с нескрываемым презрением сказал Кузьма Федоров. Он стоял чуть в стороне. Жесткое, осунувшееся, настороженное лицо. Пальцы перебирают ремень винтовки. Я только теперь увидел его и очевидную готовность по первому знаку прийти мне на помощь.
Удивительный он был человек, даже не во всем понятный мне!
Неказистый на вид, одно плечо ниже другого, сутулится, желтоватое нездоровое лицо, глаза так глубоко припрятаны, что даже цвета их сразу не разберешь; пройдет такой мимо в толпе, не заметишь. Да и профессия у него была неприметная, тихая: бухгалтер. И не на заводе где-нибудь или на крупной фабрике, а в пошивочном ателье.
— Среди баб, значится, все время, — пришепетывая, подмигнул ротный похабник и балагур Петров-Машкин — немолодой худенький черненький человек.
Кузьма как-то тяжело посмотрел на него, чуть приметная улыбка тронула его губы, он молча отвернулся и отошел, по-строевому печатая шаг.
— Сказ-и-ите… — ничуть не обескураженный, посмеиваясь, протянул Петров-Машкин.
Так началось их знакомство, началась их вражда.
Петров-Машкин, казалось, знал солдатские анекдоты всех времен и народов. Похабные рассказы, присловья сыпались, как зерно из разорванного мешка, — на стрельбище, во время перекура, в карауле. Я удивлялся, как его не тошнит от такого изобилия. Но он только улыбался своей затаенной приторной улыбочкой и сыпал, сыпал…
Любимой строевой песней его был знаменитый детский «Козлик», от которого остались только «рожки да ножки». Первые строчки были из «Козлика», а дальше двустишиями шла сплошная уныло-однообразная повторяющаяся матерщина.
Возвращаясь после короткой побывки из дому, после свидания с женой, он, сладко прижмуриваясь, охотно осведомлял всех желающих: «Ту-ува раз!»
Или повествовал более пространно: «При-сел, знаете, а бабы нет. Сто такое? Сговорено раньсе было, долзна быть дома. Приходит. Так, мол, и так, прости, сударик мой, в очереди задержалась. Забегала. То-се на стол… Не-е, говорю, брось, это потом… А я уже, значится, раздетый в кровати… Ну, и…»
Он довольно хлопал себя по ляжкам.
— Гнида ты вонючая, а не человек! — бормотнул Кузьма, как-то наскочивший на такой казарменный разговор. И не таясь плюнул.
Петров-Машкин только посмеивался, да все присматривался, да приглядывался к Кузьме с этакой остренькой, жалящей улыбочкой.
Жизнь наша шла с той размеренностью, с какой могла идти она в военное время. Мы ходили на учения в Сокольнический парк, несли по ночам караульную службу, по воскресеньям нас по очереди отпускали домой. Во время воздушных налетов объявлялись боевые тревоги. Но наш район почти не бомбили. И мы двигались по кругу: казарма, столовая, учения, караулы, казарма.