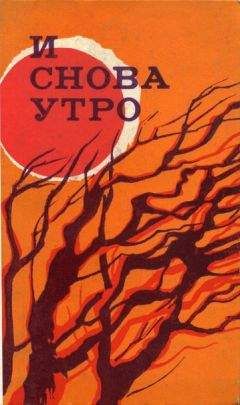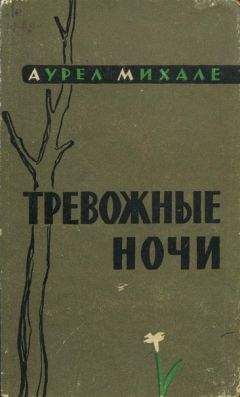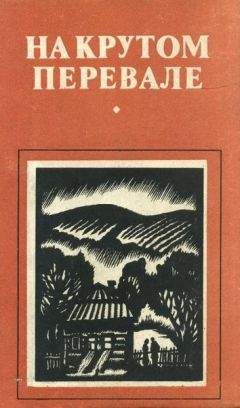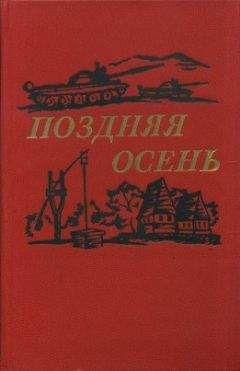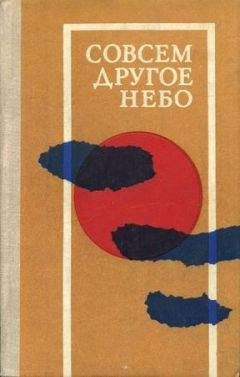Аурел Михале - Августовский рассвет (сборник)
Не помню, что я хотел сказать Додицэ, чтобы заверить его, что он увидит, как кукуруза поднимается из земли. Чей-то встревоженный голос крикнул:
— Господин младший лейтенант, идут!
Я быстро выбрался из-под плащ-палатки и подошел к Вове.
— Видите, там, в долине, видите? Крадутся, как лисы…
Я шепотом передал по цепи:
— Внимание… Внимание всем! Огонь только по моей команде.
А пока мы их ожидали, я услышал позади тихий голос:
— Господин младший лейтенант, бросайте фляжку. Большой путь вы меня заставили проделать. Далековато ушли…
Шороп был рад. Радость слышалась в его голосе. И она передалась мне: я был рад, что он вернулся и что в его отсутствие мы далеко ушли. Я шепотом спросил Вову:
— Ты их видишь? Я не вижу.
— Остановились…
— Господин младший лейтенант, фляжку! — повторил Шороп.
Я отстегнул фляжку от ремня и хотел было бросить ее Шоропу, но он в то же мгновение крикнул гортанным голосом:
— Внимание, снаряд!
Я услышал шуршание мины и укрылся. После взрыва я бросил фляжку и услышал, как она покатилась по снегу, но потом разорвалась еще одна мина. Я напрасно ощупывал снег вокруг себя. Фляжки не было. Потом обстрел усилился, а мы должны были выйти из полосы обстрела и атаковать. Майор Дрэгушин выпустил новую ракету.
Только на рассвете, после того как бой окончился, я понял, что моя фляжка уже никогда не вернется ко мне. У Шоропа больше не было чая. Осколки разбили термос, и чай вылился на снег, перемешавшись с кровью старшины.
Я пошел попрощаться с ним. Нагнулся. Глаза Шоропа застыли. Одна рука уцепилась за ушко термоса, а другая уткнулась в грудь, в то место, откуда текла кровь. Из пальцев тянулась цепочка часов. Я потянул за нее, и часы выпали из кармана, разбитые, сплющенные, с отлетевшей крышкой. Часовая стрелка осталась целой. Она показывала около пяти часов. Это был час старшины Шоропа.
* * *В тот день мы атаковали три раза и все три раза были отбиты. Противник дрался отчаянно, используя все имеющиеся в его распоряжении на этом участке орудия. Горы грохотали до позднего вечера. Укрывшись в одной из пещер на дне скалистого, затемненного снегом ущелья, мы пытались разогреть на слабеньком огоньке мясные консервы. Это была наша первая еда в тот день. Мы держали раскрытые банки над огнем то в одной, то в другой руке, поворачивая их время от времени, молча глядя на огонь. Нас было около сорока человек, но мы все же составляли роту. Столько нас осталось после трех атак с целью вызволить из окружения, в котором уже более трех дней находилась вторая рота между высотами 1088 и 1126.
Мы трижды атаковали, штурмуя гору в лоб и карабкаясь на опасные утесы, но все было напрасно.
* * *Вечерело, и мороз сделался еще пронзительнее. На вершины Татр мало-помалу опускались сумерки. Свернувшись в своем углу, я лихорадочно искал решение, возможность добиться успеха, но мысли смешивались и все время отвлекали меня от того, что я хотел отыскать и установить. Я думал о связном, который утром, едва переводя дух, пробрался, как привидение, меж вражеских позиций и вручил мне приказ командира батальона. Вручив приказ, он рухнул на еловые ветки, пробормотав:
— Я два дня и две ночи пробирался… Извините, господин лейтенант… Мне хватит хотя бы четверти часа.
Я дал ему поспать целый час, пока мы не двинулись снова в атаку. Тогда я разбудил его и сказал:
— Доложи в полку, что приказ будет выполнен.
— Ясно, господин младший лейтенант, но я не пойду назад. Я остаюсь с вами, — ответил связной.
Он был убит в первой же атаке. Вот почему его образ и слова приходили мне теперь на память. Когда он сказал, что останется у нас, я будто почувствовал себя сильнее, увереннее. У меня стало одним человеком больше. Одной единицей оружия больше. Так обстояли дела в тот день с раннего утра. Но с тех пор и до самого вечера мы не смогли сдвинуть противника ни на один метр. У меня было такое ощущение, что с каждой секундой наши шансы добиться успеха тают, что клещи, в которые попала вторая рота, сжимаются все сильнее и что я несу ответственность за все часы, которые прошли или пройдут напрасно, потому что я получил приказ и, следовательно, на меня, и только на меня, падет вся ответственность, если…
То и дело кто-нибудь из солдат выходил из пещеры послушать. Но слышны были только медленные шаги постовых да металлическое потрескивание скованной морозом хвои. Совсем стемнело. Звезды над нами сверкали, как слезы, а Млечный Путь казался схваченной льдом санной дорогой.
Кто-то протянул мне банку разогретых консервов. Я нехотя стал есть, прослеживая указательным пальцем линию на карте, а правой держа ржавую ложку, которую я подносил ко рту большей частью пустой, потому что она почти не попадала в банку. Я так углубился в изучение карты, что не замечал этого. Там, в пещере, мною вдруг завладел тревожный вопрос: что, если противник окружил или окружит нас? Естественно, карта не могла дать ответа на этот вопрос. Все же, изучая ее, я мог думать, мог искать, строить решения.
Я заметил, что солдаты наблюдают за мной с любопытством и нетерпением. Я словно забыл о них с тех пор, как мы укрылись в пещере. Захваченный своими мыслями и воспоминаниями о связном, оставшемся навсегда где-то между обрывами, я за все время с тех пор, как мы добрались до пещеры, не произнес ни единого слова.
— Господин младший лейтенант! — нарушил тишину сержант Сынджеорзан.
Я вздрогнул:
— Что случилось?
— Вы совсем ничего не поели, господин младший лейтенант. Почему вы не едите?
— Я поел достаточно, Сынджеорзан, — защищался я. — Так что самое время закурить.
Я быстро вытащил пачку сигарет и протянул ему.
Наконец я принял решение и хотел теперь поделиться им с людьми, внушить его им.
— Покурите, чтобы согреться. На улице страшный мороз. Пробирает и обжигает через одежду…
— Даже на спусковой крючок почти невозможно нажать, — вступил в разговор Момойю.
— Особенно, если человек привык к комфорту, — заметил Сынджеорзан.
— Правду говорит Момойю, господин младший лейтенант… И господин сержант Сынджеорзан тоже, — сказал Унгуройю, протягивая руку за сигаретой. Он подсел поближе ко мне.
— Ночь — это много, когда ты в окружении, — вслух рассуждал он, а Момойю утвердительно кивал головой и говорил:
— Помните Тиссу? Какой там был ад!.. Пять раз пытались, и все напрасно. Потом разъярились и взяли их тепленькими.
Но Сынджеорзан не обращал на него внимания. Он смотрел на меня, ожидая, когда можно будет спокойно сказать:
— Все будет как нужно!
Я затянулся, стряхнул пепел с сигареты и сказал обычным тоном, каким говорят «здравствуйте»:
— Через час снова атакуем…
Эти слова меня сразу и полностью успокоили.
Люди с большой жадностью затянулись, будто час, оставшийся до атаки, был на исходе, глаза их сверкнули в слабом отблеске небольшого костра. И тут же возник шум, такой характерный для подготовки к бою. Гремели пулеметные диски, щелкали затворы, позвякивали лопаты, ударяясь о ножны штыков, и над всем этим разносились оживленные голоса:
— Посмотри гранаты, браток!
— Дай и мне затянуться. А то завтра кто знает…
Кто-то шутил:
— Слышал, у них шнапс есть. Иначе моторы в такой мороз не работают.
Когда все было готово, Сынджеорзан, улыбаясь, подошел ко мне:
— Дай бог свидеться живыми и здоровыми, господин младший лейтенант!
— Желаю удачи, Сынджеорзан.
Атака была неожиданной, молниеносной. Гитлеровцы не ожидали чего-либо подобного. Они не могли представить себе, что горстка людей, отброшенная в течение дня, найдет в себе силы еще раз вскарабкаться по этим скалистым, изрезанным трещинами склонам. Мы атаковали их в уязвимых местах огнем двух пулеметов. Огонь велся с двух высоких утесов, пули летели градом. По центру их расположения били минометы.
Гитлеровцы попытались организовать контратаку, но не сумели. Они не имели для этого времени, так как я скомандовал: «В штыки!» Они не стали ждать, они хорошо знали, что это означает. Мы прошли через их позиции, продвинулись дальше вперед, пока я не решил, что следует закрепиться. Где-то поблизости должна была находиться вторая рота, но, чтобы установить с ней связь, надо было подождать до утра. Тишина перед нами казалась мне подозрительной, и я понимал, что каждый шаг вперед надо делать с предосторожностью.
В боевое охранение я выслал троих: сержанта Сынджеорзана, Момойю и Унгуройю. Натянув поверх шинелей плащ-палатки, они лежали, вытянувшись на снегу и вглядываясь в темноту впереди. Мы, остальные, отдыхали метрах в двухстах позади них.
В эти часы до рассвета случилось следующее.
Момойю сказал:
— Господин сержант, ты понимаешь, сколько силы в человеческой душе? Может, не понимаешь… Вот видишь, вчера, когда мы отступили в третий раз, я чувствовал себя тряпкой! Я говорил себе, что проспал бы трое суток подряд. На сердце было тяжело, господин сержант, и от досады, и от жажды. А вот теперь, после того как мы их побили и, как говорят, кое-что сумели сделать, мне уже спать и не хочется. Мне и не холодно, и не голодно. Видишь, и силы появились. Вот в чем дело, господин сержант.