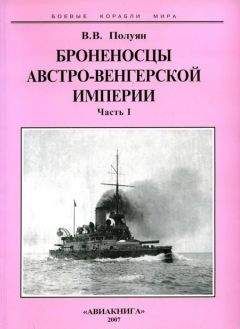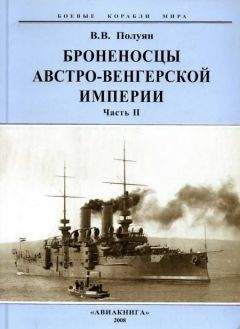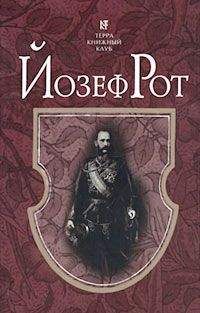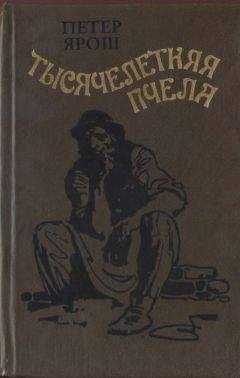Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Набрел я на корчму, в которой обосновалась прусская офицерская столовая, — извольте, в две минуты устроили. Там я с аппетитом выпил чаю, вина, съел много ветчины с белым хлебом — все это за столиком со скатертью, купил сыру, кильских шпрот и сигарет, сколько душе угодно и снова, вздыхая, потащился искать треклятую австрийскую комендатуру, которая торчит здесь уже месяц, но нигде ничего — ни самой паршивой дощечки, ни надписи, хотя бы просто мелом, ничего, что указывало бы, куда ткнуться, где могли бы мы доложить о своем прибытии и получить ночлег хоть в хлеву или сарае.
Брожу это я так, усталый, заглядываю в окна разграбленных домов, через выбитые стекла которых высовывают головы откормленные ольденбургские битюги, и вдруг останавливает меня прусский майор, подозрительно оглядывает с головы до ног и рявкает:
— Что ты тут ищешь?
Оглядев, в свою очередь, здоровенного детину, розового, с моноклем в глазу и золотыми плетеными эполетами на мундире, я отвечаю, взяв под козырек:
— Австрийскую комендатуру!
Он наморщил лоб, сосредоточенно подумал, повел глазами вокруг, дав упасть моноклю, и вдруг повелительно махнул рукой в сторону:
— Третья улица направо, шестой дом слева!
Я двинулся по его указанию и нашел двухэтажный дом, на вид совсем нежилой.
Висела на нем выцветшая рваная тряпочка — австрийский флажок на спичке-жердочке, но нигде никакой надписи, которая пояснила бы, что это и есть комендатура, нигде ни души, тишина, только где‑то блеет коза да со стороны Белграда доносятся раскаты артиллерийских орудий, обстреливающих город, и казалось, что там опрокидывали один за другим вагоны железных балок.
Взялся я за ручку двери — заперто.
Я влез в палисадник через дыру в заборе, перебрался через навозную кучу и увидел во дворике сгорбленного человечка, который, сидя на колоде и вытянув губы трубочкой под моржовыми усами, чистил офицерские сапоги.
— Скажите, пожалуйста, как пройти в комендатуру? — спрашиваю вежливо.
Человечек вскинул на меня бесконечно добрые глаза и ответил тихим, робким голосом, косясь на дверь дома:
— Не знаем, госпоне…
Мне стало жутко. «В этом таинственном доме, видно, случилось несчастье, — сказал я себе. — Я должен узнать, что тут было».
Подсел я к человечку, мы закурили, разговорились, стали вспоминать каждый о своем родном доме.
Из дровяного сарая вышли затравленные, запуганные курицы, но при виде двух добрых людей — старика и меня — они вскоре осмелели и раскудахтались.
С чердака спрыгнула кошка.
Мы долго наблюдали за этими милыми созданиями.
Потом разговаривали тихо, печально задумываясь, сидя во дворике давно сбежавшего или, может быть, повешенного хозяина, окруженные его курами и всем тем, что составляет дорогой сердцу дом.
Вдруг дверь дома распахнулась, и появился австрийский офицер с опухшей физиономией, свежевыбритый, напомаженный, напудренный, с усиками «пришел, увидел, победил», но без мундира и гамаш, в одних шлепанцах.
Мы вскочили, взяв под козырек.
За ротмистром, перепрыгивающим через лужи, двигался тем же аллюром денщик польской национальности, неся в правой руке пачку газетной бумаги, нарезанной квадратиками.
Офицер прошел мимо, не обратив на нас никакого внимания, скрылся в будке возле навозной кучи и захлопнул за собой расхлябанную дверь.
Денщик превратился в соляной столп‑точно в шести шагах от будки. Стояли и мы, глядя на все это. Над двором распростерлась тишина.
Попрятались и курочки-хохлатки.
— Алло-о! — крикнул офицер из будки, и соляной столп ожил: покрепче сжав бумагу, он бросился со всей поспешностью в будку, вытер своего повелителя, привел его в порядок, застегнул, к дому почтительно проводил, дверь за ним крепко запер, дважды проверив запор, и подсел к нам на колоду.
— Братья… Славяне! — печально заговорил я. — Сошлись мы тут, представители трех некогда могущественных наций, — вот брат хорват, потомок великих героев и воителей за землю свою против свирепых турок, вот брат поляк, из племени революционеров, боровшихся за свободу народа своего, и вот я, чех, потомок бесстрашных гуситов, перед которыми дрожала Европа, — сидим мы с вами на колоде, славянские братья мои, и плачет великая мать Славия, видя сынов своих в унижении. Немцам, исконным недругам, служить принужденные, — о, сколь горестен наш удел, братья мои по крови!
Так говорил я и распалился, час целый проповедовал с колоды и растрогал их, ибо слушали они меня чрезвычайно внимательно.
Потом я с ними простился. Долго тряс их мозолистые руки.
К колонне своей я поспешал с душою ободренной, переполненный мыслями высокими, идеальными…
Весь еще разгоряченный, рассказал я своему приятелю, командиру-чеху, о волнующей встрече трех славян, о нашем разговоре, о том, сколь символической была сцена на колоде, разыгравшаяся под грохот орудий, обстреливавших братский Белград, так что даже бессловесные твари хохлатки — и те вылезли из своих тайников и сгрудились вокруг нас… даже голуби к нам слетели…
— А где мы разместимся, где и что варить, где ночевать?
Я попытался еще раз объяснить ему.
— Принес ты бумажку о том, где наше место, куда сложить груз, где получить хлеб, мясо? А?
Я оскорбленно замолчал.
«Ну вот, — подумалось мне, — вот уже и мой пан командир заразился прусским духом, вот уже и он, пусть природный чех и прогрессист, воротит нос от душевных порывов, от братанья… да, да! И еще выражается — вот оно как! Хочет, чтоб все было на немецкий лад, быстро-быстро, точно и вовремя…»
Ненавижу придир!
Стрелки часов — давние мои неприятели.
Хочешь лишить себя всех радостей жизни — поглядывай то и дело на часы!
Возможно ли любить девушку, держа часы в руке?
Разочарованный и пристыженный, покинул я командира и снова пустился блуждать в поисках неведомой австрийской комендатуры.
Разглядываю я дома, и тут снова останавливает меня тот же самый прусский майор. На сей раз он выглядел уже веселее, жизнерадостнее. Улыбнулся мне, как старому знакомому, и спросил:
— Ну, сделал свое дело?
Я отсалютовал ему довольно небрежно.
— Да нет, — говорю, — ничего я не сделал, господин майор!
— Как так? Почему?
— Да ее… Ее там и нету.
— Чего нету?
— Австрийской комендатуры.
Он посмотрел на меня, наклонив голову, словно собирался клюнуть, и вдруг рассвирепел:
— Что-о? Как? Говоришь, нет в том доме комендатуры? Раз я сказал, что она там, значит, там, доннерветтер!
И повернулся ко мне спиной.
Побрел я дальше.
«Черти б его взяли, — думаю, — знаю я эти штучки. Меня не проведешь. Говорит, что знает, где комендатура, а на поверку выходит — ничего он. не знает. Сказал бы прямо — не знаю, мол, и катись ты колбасой, — право, мне было бы приятней. Вообще‑то никто не любит признаваться в том, что чего‑нибудь не знает. Сколько велосипедистов обманул я таким образом! «Эй, — кричит, — как проехать в Морашице?» — «Поезжайте прямо, дядя, и будете на месте!» Ха! Морашице! В жизни про них не слыхивал. Или в Праге спрашивает старушка: «Будьте любезны, молодой человек, где тут Платнержская улица?» — «Вторая направо!» — И дело с концом. Пускай себе старушка прогуляется. Или наш советник в канцелярии: «Дело должно быть в архиве, найдите!» Мы и не думаем, «Говорю, — кричит, — в архиве оно!» Только мы‑то знаем эти разговорчики и не верим. Но, чтоб не ворчал, для отводу глаз роемся в картотеке. И, разумеется, ничего не находим. Дело не иначе как в ящике у старика. А то еще дома. Говорит раз наш зять (у моего отца магазин с мануфактурой): «Счет послали?» — «Послали». — «Правда послали?» — «Правда». — «Когда?» — спрашивает зять, сам глядит сычом и не верит. — «Позавчера». А мы, конечно, и не думали посылать. Только еще собираемся послать, если уж так ему приспичило и если не забудем. Брат отца, столяр, живет рядом с нами. «А я к вам насчет оконных рам», — говорит ему архитектор. — «Ах да, рамы, — отвечает дядя, — подручный уже повез их на стройку, поди уже прибыли!» Архитектор уходит, и дядя говорит ученику: «Пепик, бери тележку, мотай за досками для рам». А пуще всего — наш отец: тот никому не верит, какой ты ни будь златоуст. Матери не верит, по десять раз переспрашивает и все равно не верит. Я весь в отца: и верю и нет. Толкуй, толкуй себе, пруссак, все равно окажется, что ты врешь, ха-ха»
Надоело мне шататься по грязным улочкам этого сербского села, и стал я подумывать, не забежать ли мне лучше еще разок в кантину, тем более что кишки подвело.
Но потом я все-таки пошел на ту улицу, однако для того только, чтоб с полной уверенностью установить, что нет здесь никакой австрийской комендатуры.
Я, мол, и сам не лыком шит, я ведь уже там был!
Щелкну‑ка я по носу этого зазнайку майора!