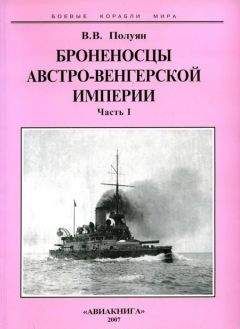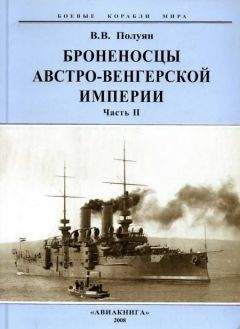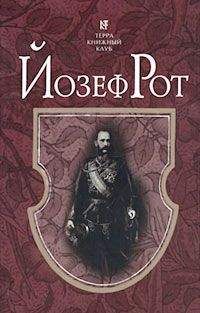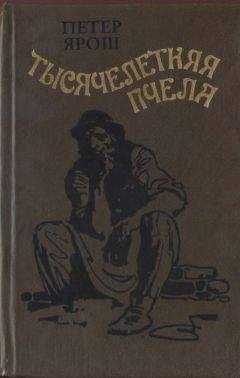Яромир Йон - Вечера на соломенном тюфяке (с иллюстрациями)
Господа! Язык женский страшней артиллерийского орудия!
* * *Пан лейтенант увлекался рыбками.
Боже, какой он был любитель рыбок!
У него стояло много разных банок, в воде плавала зеленая трава, ползали улитки, гонялись друг за другом удивительные рыбки, каких в наших речках не увидишь. Из Бразилии, Индии, Кохинхины и из других мест привозят эту зоологию. Я видел рыбок с глазами навыкате, как у нашего майора из тридцать первого полка на фронте — мы называли его Буркалы; рыбок с ушами, с павлиньим хвостом, а у одной самочки во рту был мешок, только не для хлеба, а для мальков. Захочется ей, она их переловит и опять плавает, как ни в чем не бывало.
Приятное развлечение!
Однажды пан лейтенант говорит:
— Тереза, снимите с полки вон ту стеклянную посудину.
Взяла она стремянку, полезла наверх.
Сперва упала посудина.
Потом Тереза, а за ней лестница.
Сидит она на полу и смеется.
Вообще‑то, господа, мораванки — отчаянные бабы.
В тот же самый вечер застукал я ее в беседке с одним раненым из девятой палаты.
На восемь недель запретили ей выходить из госпиталя.
Теперь послушайте, как она отомстила.
Пятеро чинов подверглись дисциплинарному дознанию за то, мол, что по два раза получали питание, брали муку, яички, домашний хлеб, масло, и все бесплатно, что до полуночи играли с больными в карты, а раненые за зиму сожгли триста восемьдесят восемь пар деревянных башмаков, чтобы согреваться, пока не было угля. Тереза рассказала, кто рубил и кто жег исповедальню пана фельдкурата — ящик с великолепной резьбой по дереву, о том, что кладовщик меняет сапоги, которые прошагали по всей Европе, на отличные шведки. Одним словом, началась заваруха.
Пан капитан учинил грандиозный разнос. Семерых арестовал, остальных перевели, материал на них был послан в отдел личного состава.
Тереза ходила гоголем!
Господа! Баба — коварный враг!
Госпиталь расширялся. К замку добавили школьные здания, не хватало мужского обслуживающего персонала, охраны, все были на фронте, а то, что осталось, — мужички завалящие, калеки бракованные и перебракованные. Но и ради них наезжали летучие комиссии.
Было от чего прийти в отчаяние. Женщин стало больше, чем мужчин.
Бедный пан капитан…
* * *В воскресенье вольноопределяющийся пан Надемлейнский наказал Терезу самолично, без пана капитана, а уже в понедельник его арестовали.
Вот еще про это вам расскажу… и хватит!
Возле замка был сад. За ним раскинулся луг, на котором стояла вышка для пожарных учений.
В воскресенье во второй половине дня стала собираться гроза. С запада надвигались тучи.
Собрал он в саду шестерых баб, из тех, что погорластее.
Что, спрашивают, ему угодно?
Им, мол, некогда. Одной надо в Мнишек на танцульку, к другой парень с фронта приехал, у третьей свидание возле мельницы, четвертая собралась с одним раненым кататься на карусели, пятая провожает жениха на вокзал.
Тереза молчит, глаза у нее бегают, переминается.
Пан Недемлейнский говорит о том, о сем, шутит.
Ждет, когда гроза подойдет ближе. Вдруг сверкнула молния.
— Господи боже!
— Спаси нас и помилуй!
— Надо же, какой ветер поднялся.
— Шауен зи на это.
— Анда, унесет ветер твои карусели!
— Кончайте болтать, отправляйтесь‑ка лучше на кухню да перетрите посуду!
— Еще чего! Сегодня воскресенье!
— Пошли, девчата, а то мы задерживаем пана взводного.
Тут он возьми и скажи, что звонили из Габржины, там сахарный завод занялся… Сам был на вышке… во полыхает!
Не успел он кончить, как быстроногая Божка первой очутилась возле вышки. Пан Надемлейнский приставил лесенку.
Вышка была высотою в пять этажей.
Со второго этажа они втянули лесенку на третий. На четвертом он сказал им: я, мол, тяжелый, а сооружение ветхое, я лучше подожду внизу.
Слез и оттащил лесенку.
Девицы озирались вокруг и спрашивали: где же горит сахарный завод?
Тем временем святой Петр стал кормить землю ледяным горошком.
Град забарабанил по крытой толем крыше дровяного сарайчика, откуда мы наблюдали всю эту потеху.
А гроза надвигалась.
Тучи стали похожи на подгоревшие блины.
Сверкнула молния, следом — бабах! — гром.
И полило, и полило, как из ведра.
— На небе в кегли кто‑то играет… Вот это удар! Все девять свалил! — нахваливает грозу лаборант.
— Помилуй бог… Страшенная гроза!
— Господь где‑то проводку чинит, — говорит пан Краткий, наш электрик.
«Черт побери, — подумал я, — эта шутка может скверно кончиться…»
Девчата испугались, стали умолять, чтобы помогли им спуститься. Больше всех испугалась Тереза.
Бабах… брррум… ха-ха-ха!
— Святая дева… смилуйся… ой-ой-ой! — завопили они от страха.
— Ну, что, девки! Будете себя хорошо вести?
— Будем… ах!.. пан Надемлейнский… будем!
— И ты, Тереза?
— Золотой мой, миленький, будьте добреньким, дайте лесенку!
— Я спрашиваю, Тереза, будете себя хорошо вести?
— Все сделаю, только прошу вас, дайте лесенку!
— Будете слушаться с первого слова?
— Будем, будем!
— Ну, так запомните! Если обманете… так пусть вас там разразит гром!
И тут, как по заказу, стало темно и совсем рядом раздался удар.
— Кончайте шутки, пан взводный, — говорю ему.
Мы быстро влезли наверх и приставили лесенку. Первой соскочила Тереза.
Юбка у ней прилипла к телу, с нее текло, волосы растрепались.
За нею остальные.
Как зайцы, прыгали они вокруг сарая. Тереза стала, руки в боки:
— Вы погодите, вы, подлый человек… я не… я и не подумаю… вот увидите… еще увидите!..
Топнула ногой, угодила в лужу и умчалась. Капитан посадил пана Надемлейнского, взводного, вольноопределяющегося, на шесть суток в одиночку. Ну… это уж он… того, хватил…
* * *Теперь, господа, вы наглядно убедились, что за народ эти бабы.
Кто из вас еще холост, цените свободу, сторонитесь баб. Лучше их за версту обойти.
А то плохо кончите.
Как бы вы ни старались…
Немец-перец
Я вам еще не представился: Тихачек, поэт и журналист. Писал я главным образом в нашу газету «Глас» — очерки о том, что видел и пережил на войне. Вот и сейчас пишу одну новую вещицу о том, какие немцы педанты и буквоеды. Впрочем, многие чехи, увы, тоже!
* * *Осенью 1915 года, во время кампании Маккензена против Сербии, как раз когда днем и ночью бомбардировали Белград, наша обозная колонна подошла около восьми утра к деревне под Земуне с людьми и животными, измученными ночным маршем через бездонные трясины, одуревшими, ослепленными сербскими прожекторами, и меня отправили вперед — искать австрийскую комендатуру, чтобы получить там разнарядку на размещение двухсот пятнадцати лошадей, ста тридцати человек, двух волов, восьми овец и одной дворняги.
Большое, широко раскинувшееся село было забито прусскими частями.
Мы подивились уверенности, с какой держались эти заносчивые господа, — вели они себя так, словно испокон веков были здесь дома; несимпатичные малые, такие чистенькие и аккуратные, будто только что из бонбоньерки, — бог им судья, я поражался, когда это они успели побриться, почиститься, выгладить одежду, сапоги наваксить: ведь они явились сюда всего двумя часами раньше нас и тоже прошагали всю ночь.
И вот что еще: повсюду уже развешаны были красивые указатели, словно на какой‑нибудь международной выставке в Лейпциге или Дрездене, там, мол, находится то‑то, а здесь — это, сюда, солдатик, или туда, вот в этом направлении; на телеграфных столбах, на деревьях — дощечки с надписями, стрелы, руки, указательные знаки, флажки — и все это солидно и добротно прибито гвоздиками, ничто не висит кое‑как, криво, как то я видывал в польских частях, где все сделано на живую нитку, просто для очистки совести.
А эти умеют позаботиться о себе!
На перекрестках стояли прусские уланы верхом на красивых, рослых лошадях, указывая пиками — Rechts! Links! Gradaus! [131] — путь артиллерийским частям, обозам, пекарням, пехоте, саперам, связистам и уверенной рукой разделяя непрерывный поток, запрудивший дороги и улочки хорватского села. И все разделялось, подчиняясь им, так что приятно посмотреть.
Наша австрийская колонна, кучка оборванных бродяг, тянущих за собой гуськом две сотни перегруженных тощих, печальных одров, растерянно остановилась в сторонке, в самой мокряди, не зная, где найти убежище на ночь, поскольку все заполонили пруссаки.
Командир, унтер-офицеры, солдаты без конца терпеливо расспрашивали, где же тут наше, австрийское, местное начальство, а я плутал по улочкам и тоже терпеливо расспрашивал, ища австрийскую военную власть, эту самую комендатуру.