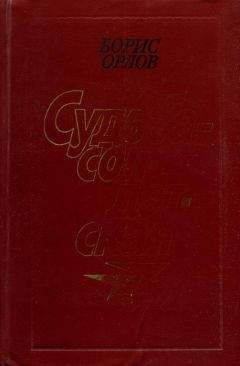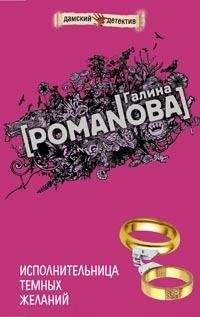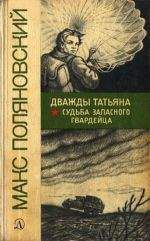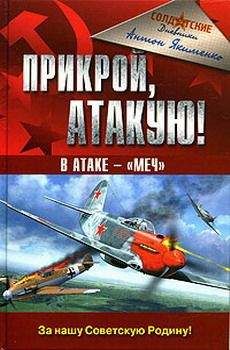Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
Я твердил о Павле Корчагине… На том и разошлись.
Но Бабель чем-то ранил меня. В непомерной гордыне я решил: напишу рассказ о Первой Конной. «Я покажу вам! Вы все будете замирать у длинных листов нашей «Комсомолии» — обычно она тянулась вдоль всего коридора. Вы будете читать и плакать…»
…Комбрига хоронят на высоком холме. Над его могилой шумят бронзоволицые сосны. И холм и сосны — словно скорбно замершие высокие женщины с распущенными волосами — видны издалека. Пройдет путник, поклонится. Взбежит девушка по крутой тропке, положит букет полевых цветов. По-матерински погорюет старушка. Пионеры в красных галстуках, со знаменем и горном опустятся на одно колено…
Рассказ был готов. Но прежде чем предложить свое создание общественному мнению, я решил вынести его на суд одного из ближних.
Но кому довериться? Семен отпадал по вполне понятным соображениям. Друг мой Виктор Чекрыжев болел, его заперли в изоляторе — подхватил детскую «свинку». Иван был в полном «загоне» — за пять дней ему надобно было написать курсовую работу по истории средних веков: об экономических причинах крестьянской войны в Германии.
Я одного за другим перебирал товарищей по комнате. Володька Петров всерьез погрузился в недоступные для простого смертного глубины китайского языка. Он ходил с тетрадкой, в которой была записана очередная порция иероглифов, и зубрил их на переменах, в трамвае, в столовой… На кой они ему!.. В те бурные времена, когда почти каждый день самые неожиданные события потрясали Европу, заниматься китайским, казалось мне, все равно что уйти в отшельники. А он оторвется от своей тетрадочки, сутулый, худой до того, что даже очки сами собой сползали на конец носа, ясненько улыбнется: извини, мол, не могу, поправит очки и вновь прилипнет к тетрадочке. Нет, Володька не годился…
Пригодился нам Володька, и очень скоро!.. После войны он в тридцать лет защитил докторскую диссертацию об истории национально-освободительной войны в Китае.
Жил с нами еще Валька с философского. Он часами мог сидеть перед зеркалом, внимательно один за другим изучая угри, которые густо бугрились на его лице. Да и что можно было ожидать от него, если он на одном из вечеров прочитал свои стихи («Политическая лирика», — объявил он), в которых рифмовались: совхозы — колхозы, ударник — напарник… Его так и начали звать. «Эй ты, ударник — напарник!»
Выходило: рассказ некому читать.
Помог случай.
— Вставай, вставай… — твердил Миня Климашин. Он настойчиво стаскивал с меня одеяло.
Со сна я ничего не понимал. Куда? Зачем? На лекцию? Вроде рано. В окнах темно. Через верхние стекла над дверью пробивается желтоватый ночной свет из коридора. Потянулся к тумбочке за часами, глянул… Если бы в тот момент под руками у меня оказалось что-нибудь тяжелое, Мине пришлось бы обращаться за «скорой помощью»: было два часа ночи, недавно уснул, в семь на лекцию. Ах ты!.. Я подпрыгнул на кровати, двинул Миню в живот ногой, прошипел: «Удались!..»
Миня на ногах устоял и все так же терпеливо, ровно, настойчиво, словно добрая бабушка, уговаривающая дитя съесть манную кашу, продолжал: «Вставай, одевайся, пойдем… Это очень надо!»
Тут только я разглядел, что он в пальто, шапке, большой, громоздкий. Маленькие глазки на толстом добродушном лице укоряют меня. Видно, стряслось что-то с человеком. Пришлось вставать, одеваться…
Мы вышли во двор. Говорят, в нашем общежитии в дореволюционные времена была богадельня: замкнутое квадратное здание с бесконечными мрачными коридорами; внутри двора часовенка, теперь — склад Потопали вокруг часовенки. Сеялся редкий снежок. Мохнатые нахолодавшие звездочки медленно проплывали у фонарей.
Я зябко поежился, зевнул — до того хотелось спать! — повернулся к Мине:
— Что у тебя стряслось, человече?
Миня доверительно взял меня за конец воротника и с некоей торжественной значительностью сказал:
— Я хочу рассказать, как я бы поставил «Макбета». У меня родился гениальный план!..
Я начал заикаться:
— И-и-из-за этого ты меня разбудил?
— Конечно, — сказал Миня. И продолжал возвышенно и просветленно: — Я пришел к выводу, что «Макбет» — одна из непрочитанных трагедий Шекспира. Я познакомился с историями многих постановок — они не удовлетворяют меня. Все надо по-другому. Все должно быть грандиозно. Прежде всего сцена…
И тут меня осенило и примирило и обрадовало: вот кому прочитать рассказ! Уж если этого проймет, тогда все…
Миня говорил о трагедии злодейства, которое стало таковым как бы против своей воли, он связывал замысел Шекспира и с современностью, с неизбежным возмездием всякому делу, не имеющему общечеловеческого нравственного оправдания — фашизм, например, яд разрушения внутри, он говорил о значении мистического элемента в режиссерских решениях, — видно, Миня недаром переводил средневековых немецких поэтов…
Но главное — сцена. Миня напирал на это, она должна быть по-иному устроена. Он палочкой чертил на снегу план, что-то прикидывал, изменял… Часа через два — ни в одном окне не было света — Миня решил меня отпустить, пообещал: остальное завтра доскажу.
Я предложил Мине прочитать свой рассказ сегодня, сейчас, какой тут был сон…
— Ты написал рассказ? — переспросил Миня и уважительно сказал: — Здорово! Ты молодец!..
Мы устроились в коридоре, в светлом кругу, под лампочкой. Он стоял, и я, стоя, читал…
— Событие есть, а человека нет. Бесформенный он, твой комбриг. Его бы… — Миня покрутил растопыренными пальцами, как будто чайное блюдце поворачивал. — С разных бы сторон его: что он любит, как он гневается, как говорит. А то он у тебя вроде духа на коне. Дымок, это хорошо ты подпустил, печи топят на рассвете, мирный дымок, а на них сейчас ринется кавалерийская лавина, война обрушится.
Сразил он меня другим:
— Ты что-то напутал. Твоему комбригу, говоришь, двадцать два года. В тысяча девятьсот тринадцатом году он был уже студентом, война с белополяками была в тысяча девятьсот двадцатом году, следовательно, ему должно быть не меньше двадцати шести — двадцати сем; лет. А это совсем другой поворот в характере… Финал сентиментален, смерть сама — сильно, а в конце ты хочешь растрогать. Не надо этого! В твоем случае сентиментальность — грим, положенный на мужественное лицо. К чему он?.. Значит, ты писателем хочешь стать? Здорово! Я вот не смогу — анализ заедает. Все разобрать хочется, как ребенку новую игрушку, поглядеть, что там внутри… Как ты думаешь, можно понять, в чем сила искусства, почему оно с людьми с изначальных времен?
Миня Климашин погиб осенью 1943 года. Он был переводчиком в воздушно-десантной бригаде.
…Я долго еще «переживал» свою неудачу, но у меня была тайная радость-солнышко, о которой я никому не мог рассказать, о которой никто даже не догадывался. Пока я писал рассказ, думал о нем, и спустя много времени я сам был комбригом Чугуновым.
РОМАНТИКИ
Мы валяемся на траве. Под головами — конспекты и книги. Над нами — небо и вершины сосен. Медно-желтые стволы врезаются в прозрачную небесную синь. Сосны накаленно дышат. От их горьковато-хвойного разморенного дыхания дремотно кружится голова. Словно тихо уплываешь в дальние дали, покачиваясь на редкой волне.
В земной мир возвращает взорвавшееся разноголосье у маленького пруда, скрытого за кустами и деревьями: кричат, визжат, хохочут ребятишки. Уже купаются, чертенята! С приглушенным лязгом и воем проносится поезд электрички. Его путь угадывается за березовым перелеском.
И снова тишина. И снова слышится неутомимый стук дятла, заботливо осматривающего, выстукивающего по очереди всех своих подопечных: здоровы ли, не забрались ли жучки-древоточцы под их защитную рубашку — кору?.. И благодарный скрипучий вздох дерева. И слабый таинственный шепот, — может, это трава шевелится под нагретым ветром, а может, листья кустов, хвоинки тихонько переговариваются между собой?.. О вечности и бесконечности.
И снова плывешь в дремотно-покачивающейся лодке остановившегося времени…
Конечен я, но бесконечна жизнь. Умрет и эта сосна, так высоко вымахнувшая в небо, и веселая белозубая ромашка, и былинка, доверчиво прильнувшая к земле. Умрет и вон та длинноклювая птаха, что так старается на дереве, прямо надо мной. Вишь, что разделывает?! Голова с клювом отходит назад, до предела, и с силой молота — вперед! Удар! Тук! И снова — тук! тук! С механической размеренностью и одержимостью. Исполняет свой долг. Перед кем?
Для чего все живое является на землю? Чтобы продолжить себя, повторить в потомстве и уйти… Сосна бросит семя, ветер понесет его, пристроит в подходящем уголке, проклюнется росточек, пойдет вверх, набирая силу… Птица выведет маленьких… Человек родит детей.
Жизнь и смерть едины? Смерть означает одновременно и продолжение жизни.