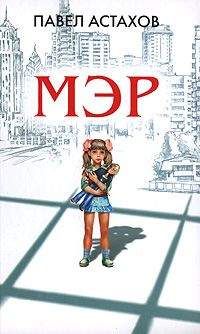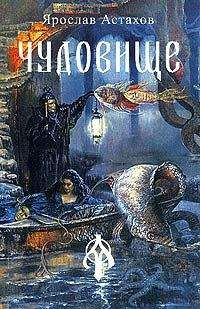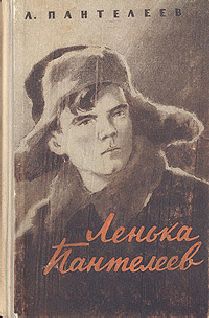Лёнька. Украденное детство - Астахов Павел Алексеевич
Она развернулась к перепуганным и жмущимся друг другу людям и вновь, но уже резче и громче выкрикнула:
– Ахтунг! Внимание! Слушать внимательно! Приказываю! Раздевайтесь сейчас! Снимайте всё! Одежда будет менять! Эта стирать и менять! Понимайт? Бистро! Шнелл!
Она кивнула двум полицаям из числа гражданских, присягнувших «новой власти», стоявшим неподалеку и глазевшим с нетерпением на обещанное представление, когда несколько сот женщин нагими будут проходить осмотр. Те сразу же подбежали к ней:
– Фрау доктор, чего изволите?
– Собирайт вся одежда и отправляйт на вода. Вашен. Стирайка. Ферштейн? – брезгливо и сердито скомандовала «фрау доктор».
– Так точно! Яволь! – хором отрапортовали полицаи.
В этом пересылочном лагере им приходилось выполнять и такую функцию. Хотя, как правило, они, получив приказ, тут же перекладывали его исполнение на самих заключенных, выбрав из них нескольких крепких женщин. Вот и сейчас они суетливо бегали вдоль изгороди, высматривая тех, что покрепче и покрупнее. Конечно же они увидели Люську-Людмилу, которая уже зарекомендовала себя дисциплинированной исполнительницей, и заорали:
– Эй, ты! А ну иди сюда! Будешь ответственной за сбор и стирку тряпок. Скажи, чтоб эти курицы скорее скидывали одежду и подходили к фрау доктору.
– Чо скуксились, девки?! – загоготал второй полицай. – Не боись! Глубоко не полезут. Гы-гы-гы!
– Ну давай, давай, подгоняй этих лахудр. А не то начнем свинцом их ускорять. Ты ж опытная, Людка, сама знаешь, – объяснял уже знакомый Люсе надсмотрщик.
– Да знаю. Видала, как вы третьего дня изгалялись, нелюди, – огрызнулась Люська, но при этом уже встала и подталкивала баб вперед к ограде, за которой нетерпеливо постукивала «волшебной палочкой» старшая врачиха в пенсне.
– Ой, бабоньки, это ж срам какой?! – воскликнула мама Галины, взявшая опеку кроме дочери и над оставшейся сиротой Настей Бацуевой. Она указала на продолжавших бесстыдно глазеть полицаев, ожидавших трагического представления.
Женщинам приходилось подчиняться, несмотря на унижение, обиду, боль и присутствие посторонних мужиков.
– Да, пропадите ж вы пропадом! – возмущенно выкрикнул кто-то.
И одна за другой женщины стали снимать одежду. Дети пока ошеломленно смотрели на своих раздевающихся матерей. Наконец пришла и их очередь, так как немецкая комиссия не успокаивалась и продолжала отдавать указания:
– Киндер тоже! Раздевайт! Полностью! Аллес!
Постепенно еще несколько минут назад разнообразно и пестро одетая толпа людей превратилась в нагую копошащуюся людскую массу. Женщины с детьми потянулись ручейками к забору, сквозь который, ловко орудуя теми самыми «волшебными палочками», медики-эсэсовцы тыкали женщин в различные места, не стесняясь указывать:
– Раздвигай! Показать! Повернуть! Рот открыть! Закрыть! Отойти! Следующая! Раздвигай…
Вслед за женщинами пошли и дети. Девочки, потупив глаза и краснея, не смели взглянуть на мальчиков и даже друг на друга. Унизительная процедура длилась целый час, а может, и дольше. Каждому осмотренному ставился чернильный штамп на руку. Без такого штампа в последующем не выдавали личный номер и новые документы. Бюрократический конвейер работал исправно. После получения метки надо было идти в душевую, а после помывки получать номер с жетоном на шею и новую одежду.
Уже большинство пленников прошли через осмотр и получили свои чернильные метки, а Акулина продолжала оставаться на месте, пытаясь хоть как-то привести в чувство сына, которого успела быстро раздеть, чтоб он не выделялся среди голых узников. Лёнька пытался под уговоры матери открыть глаза и даже подняться, но, видимо, от сильного удара дубинкой он получил сотрясение мозга, так что не мог встать. Голова гудела, как чугунный рельс, в который бьют при пожаре и чей звон и гул разносятся по всей округе. Мальчишку мутило и тошнило, ссадина болезненно ныла, мысли путались и скакали, как белки весной в поисках пропитания. Он с большим трудом разлепил запекшиеся губы:
– Ма-а-а…
– Ой, сыночка. Очнись. Очнись! Надо встать и подойти к забору. Там осмотрят и отпустят, – торопливо объясняла мать.
– К забору… отпустят… А? А почему… ты голая? Почему я? Почему все голые? Ма-а-ам!!! – закричал от неожиданности, оглядев всех и себя, Лёнька. От этой шокирующей новости он встрепенулся и, казалось, пришел в себя. Но тут же вновь обмяк и закрыл глаза. Сознание вновь ускользало от раненого мальчика.
– Люда! Люська! Помоги мне. Прошу тебя! – взмолилась мать, увидав мелькнувшую впереди Людку-Люську, которая распределяла подходивших к забору баб и ребятишек. Она ловко руководила этими людскими потоками, хотя сама тоже стояла абсолютно нагая, не стесняясь выпучивших глаза полицаев и постепенно прибившихся к ним нескольких усташей.
Людмила услыхала голос новой знакомой и, качая головой, подошла к ней:
– Ай, нехорошо, очень нехорошо. Надо идти на осмотр. Оставь его! Сама подойди. Давай-давай!
Акулина положила сына на брошенные вещи и прикрыла сверху какой-то рубахой. Все пожитки люди побросали там же, где сидели, так как им объявили, что вещи будут выданы заново после осмотра и помывки. Действительно, невдалеке от их загона на территории лагеря виднелось что-то типа летней душевой с подвешенными и разветвленными водопроводными трубами на сотню человек. Голых женщин и детей после осмотра и штамповки прогоняли в душевую. Акулина подошла к забору и выполнила все приказы осматривающей низкорослой немки-врача. Та удовлетворенно кивнула, а затем воскликнула:
– Гуд! Отходи! Эй, а твой сын? Киндер? Где киндер?
Оказалось, эти внимательные глаза не только осматривали пленных, но и замечали, кто с кем находится. Повисла жуткая пауза. В этот момент раздался громкий возглас Люськи:
– Эй! Мужики! А ну смотри на то, чего не видали никогда!
И она, крупная, рыхлая, белотелая, вдруг подпрыгнула и сделала колесо. Да так ловко, что даже немки удивленно зацокали языком:
– Оу! Фантастиш!
А стоявшие поодаль полицаи от увиденного кульбита голой Людки восхищенно засвистели и заулюлюкали. Люськин фокус помог Акулине быстро отскочить назад и, прижав к себе сына, пронести его вперед, смешавшись с толпой уже отмеченных женщин, бредущих на помывку, пересчет и одевание. Правда, у него не было отметки, но мать, не растерявшись, быстро приложила свою чернильную метку к его руке и размазала. Получилось вроде как смазанный значок. «В любом случае при помывке чернила могли поплыть», – подумала мать и решила в случае чего так и объяснять. Сзади их догнала Люська:
– Молодец! Сообразила, значит, выживешь. Погляди-ка, вон как меня провожают аплодисментами. Хе-хе-хе!
Ей вслед действительно неслись свист, окрики и пошлые шутки полицаев и надзирателей-хорватов, которых во время осмотра не допускали к заключенным, так как немцы считали это именно своей важной задачей – обследование будущих рабов «Великой Германии». К хорватам-охранникам и надсмотрщикам у них было весьма прохладное и даже надменно-презрительное отношение. Все они, по мнению главных теоретиков Третьего рейха, тоже относились к категории «унтерменшей», то есть «недочеловеков». Хотя им и разрешалось носить форму, свободно передвигаться, даже выполнять отдельные поручения немецкого командования, настоящие арийцы не могли позволить ставить их в один ряд с собой.
Лагерфюрер – гауптштурмфюрер СС, в подчинении которого находился батальон таких националистов-хорватов, отправлял этих «бульдогов» на самые грязные задания. В первые дни создания лагеря он натравил свору этих садистов на сбежавших из лагеря, в котором еще не было двойного забора и круглосуточной охраны, несчастных женщин, привезенных из захваченного после бомбежки поезда. Двенадцать женщин и семеро детей были растерзаны, растоптаны, разодраны и уничтожены озверелыми палачами. Глядя на них, создавалось ощущение, что они были сотворены, выведены и селекционированы где-то в мрачных глубинных подвалах преисподней специально для пыток, издевательств и расправ. Похожие друг на друга, как родные братья: с кряжистыми мощными торсами, короткими толстыми кряжистыми ногами, могучими кабаньими загривками и круглыми брылястыми морщинистыми башками, – они производили впечатление своры бойцовых собак, готовых растерзать любое живое существо. Их не останавливало даже то, что вместо оружия им выдавались деревянные дубинки, которыми они ловко управлялись, круша налево и направо черепа несчастных жертв безо всякого повода. Любимым развлечением их было бросать в землянки, набитые плененными людьми, ручные гранаты. Малейший шум, детский плач, громкие рыдания или причитания несчастных жертв – все это было достаточным поводом для изощренных садистских убийств. После нескольких таких экзекуций и расправ, когда число убитых стало исчисляться десятками, начальник лагеря вызвал старших каждой бригады и зачитал им приказ о полном запрете убийств в лагере.